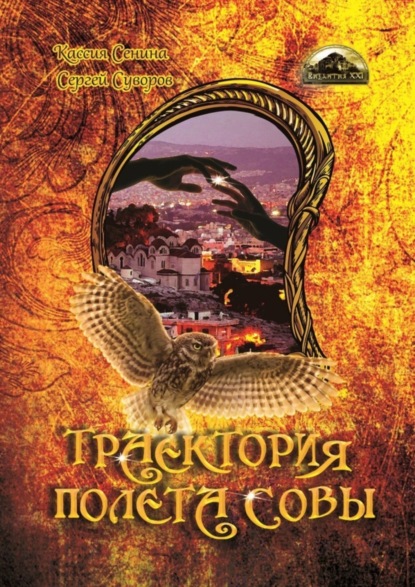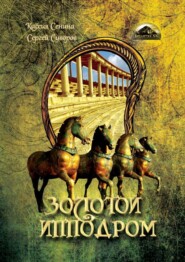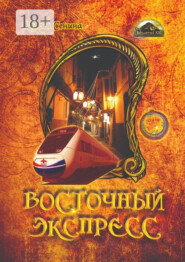По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Траектория полета совы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Киннам мрачно наблюдал в окошко самолета, как внизу проплывает Эвбея. Никогда еще он не летел в Константинополь с таким тяжелым сердцем. Последний Золотой Ипподром окончательно убедил его, что тайные надежды хоть на какую-то взаимность императрицы тщетны, и теперь ждать ему было совершенно нечего, кроме новой порции танталовых мук. Сколько бы он ни гнал мысли о Евдокии в Афинах, в Константинополе не думать об августе, ежедневно видя ее, будет невозможно… И снова его захлестывали боль, горечь и досада, изгнанные было из сердца по дороге в горы Тайгета. Нет, не изгнанные – лишь загнанные глубоко в душевные подвалы, под крепкие замки, которые сейчас заскрипели и готовились упасть, как только великий ритор снова вступит под своды Большого Дворца и предстанет перед августейшими…
Как он мог так обмануться, в самом деле? Пять лет наблюдая за Евдокией, любуясь ею, ловя каждое ее движение, взгляд, слово, как мог он не понять, что в безудержном кокетстве этой невероятно красивой и очень горячей женщины не могло быть ничего настолько серьезного, чтобы признаваться ей в своих чувствах?!
Великий ритор усмехнулся: когда-то поймавший немало женщин на подобные приманки, он, наконец, попался сам – справедливое возмездие! Но ирония судьбы состояла в том, что августа вовсе не собиралась его ловить. Она всего лишь слишком бурно и непосредственно восхитилась его романами, всего лишь обрадовалась, открыв в нем родственную душу, – а он вообразил, будто она догадалась о его чувствах и готова на них ответить… Да, «прочтение изнутри», о котором она говорила, было связано и с тем, что он сумел выразить чувства любящей души, но августа любила не его. Смешно! Она и не подозревала о его страсти, а вольности, впервые допущенные им по отношению к ней за несколько дней Ипподрома, сочла, вероятно, столь же ничего не значащим флиртом, как и ее собственный… Правда, масла в огонь подлил еще и белый вальс, на который августа неожиданно его пригласила: Киннам придал этому столько значения, а между тем эта неслыханная благосклонность оказалась всего лишь случайностью! Ни ее явное удовольствие от общения с ним, ни трепет от мимолетных прикосновений его руки, ни страстное танго на берегу Босфора тоже не говорили о чем-то особенном – по крайней мере, здесь не было осознанного поощрения: если Евдокия и увлеклась слегка, то бессознательно, не держа и в мыслях довести дело до того, на что Феодор понадеялся…
Как всё глупо вышло! Потратить столько душевных сил, едва не навлечь на себя гнев императора – и всё для того, чтобы в конце концов увидеть, как августа оплакивает горькими слезами свое поведение, которое так окрылило его надежды! Ах нет, еще был поцелуй… Единственное, что ему досталось! Он сказал ей, что будет помнить этот поцелуй до конца жизни и не пожалеет, даже если придется заплатить за него потерей ректорского кресла, но… Надо признаться честно: это был риторический пафос! Как ни сладки ее губы, воспоминание о них не утешило б его, если бы дело обернулось прещениями со стороны ревнивого мужа… И хотя Феодор снова летит в Город, снова увидит Евдокию, он ощущал вместо радости, как раньше, лишь глухую тоску. И воспоминание о поцелуе августы не могло развеять ее – смешно, в самом деле! Хотеть всего, а получить одно касание губ – правда, затрепетавших на его губах, но лишь невольно…
Впрочем, если задуматься, что толку в тех стараниях, которые он прилагал, добиваясь благосклонности императрицы? Если бы даже она ответила – что получил бы он? В худшем случае – лишь ее тело, в лучшем – еще и кусочек ее души… Но всю целиком он не получил бы ее никогда: ее связывали с мужем многолетняя любовь, совместная жизнь, дети, общность положения… Да что только их не связывало! Тогда как с Киннамом ее могла бы связать лишь плотская страсть и отчасти душевная близость – но то-то и оно, что лишь отчасти! Даже странно, почему он так надеялся, что она догадается о чувствах, которые он тщательно скрывал при их общении, давая им волю только в своих мечтах и романах? Теперь, по здравом размышлении, эта надежда представлялась ему нелепой. Мало ли на свете было и есть писателей, в чьих произведениях читатели находят много созвучного собственным чувствам, надеждам, радостям, страданиям, взгляду на мир, сомнениям и вере, – но разве из этого следует какое-то отношение автора лично к тому или другому читателю? Странная мысль!
Но нет, все-таки Евдокия могла бы понять! За те пять лет, что он провел в ее ближайшем окружении, развлекая ее, ловя любую возможность, чтобы поговорить с ней, научившись угадывать ее желания, с полуслова понимать ее настроение, – она могла бы что-то понять, по крайней мере, прочтя его романы. Но она не поняла… или не заметила – потому, что сама не питала к нему и ничтожной доли тех чувств, которые питал к ней он. Он был для нее всего лишь одним из поклонников – конечно, из числа самых приятных ей, но не более. Она так любила мужа, что ей, по-видимому, не приходило в голову искать в отношении к ней мужчин, всегда ее окружавших, нечто более глубокое, чем обычный светский флирт…
Словом, даже при самом благоприятном раскладе великий ритор не получил бы от августы, в сущности, ничего сверх того, что имел когда-то от своих любовниц. А этого ли он хотел?! Глупец! Он хотел от нее того, что получить невозможно…
И бессмысленно рассуждать о том, насколько понимает Евдокию августейший муж, насколько они подходят друг другу: она его любит, и этим всё сказано. А великий ритор своим идиотским демаршем не только испортил отношения с августой, которые могли бы перерасти в дружбу, но еще и навлек на себя мстительный гнев императора, который теперь неизвестно когда утихнет. Ведь краковское поручение не расценить иначе, чем как новую – после подаренной на прошлом Ипподроме вазы с недвусмысленной росписью – попытку ткнуть неудачливого соперника носом в совершенный проступок? И сколько их будет еще, таких щелчков по носу?..
Киннам достал из сумки книгу и попробовал читать, но глаза бежали по строчкам, а ум ничего не воспринимал. Захлопнув книгу, он взял со столика журнал и принялся рассеянно листать. Глянцевые страницы пестрели яркими фотографиями, сопровождавшими рассказы о разных уголках мира, и великий ритор вдруг подумал, что почти не путешествовал ради собственного удовольствия: во все города, где ему довелось побывать, он приезжал исключительно с научными и деловыми целями. Даже летом, когда многие его коллеги отправлялись по туристическим маршрутам, он предпочитал оставаться в Афинах, читал и писал, как всегда, отдыхал в саду у бассейна, иногда выезжал на малолюдные пляжи или выбирался с сыном на близлежащие острова. Правда, прошлым летом они с Фотисом провели месяц в поездке по средиземноморскому побережью, исследуя затопленные города и прибрежные античные развалины, но в целом Киннам редко ездил куда-нибудь, кроме научных конгрессов, конференций и защит. Вероятно, он подсознательно избегал таких путешествий, во время которых слишком остро ощущал то, чего ему всегда не хватало – и когда жива была жена, и позже – и на отсутствие чего он, похоже, обречен до смерти…
Феодор почувствовал, как из глубины души начинает подниматься та нестерпимая горечь, которую он всегда стремился загнать подальше, чтобы не отравлять себе жизнь. Он уже хотел резким движением закрыть журнал, который, вместо того чтобы развлечь его, только разбередил душу, – как вдруг взгляд упал на рекламу коньяка «Хеннесси», и Киннам вспомнил, что обещал подарить Афинаиде оружие для духовной борьбы. Он улыбнулся и подумал, что надо непременно зайти в Городе на Большом Базаре в магазин «Галлика», где продавали лучший коньяк и был богатейший выбор этого напитка. Нужно купить что-то веселого золотистого цвета, с фруктовой сладостью и ванилью… А может быть, апельсиновое с корицей, нотками меда и пряностей… Надо еще подумать на месте, понюхать и попробовать… Ей нужен коньяк понежнее и поутонченнее!
Внезапно Феодору стало легко и даже весело, словно у его поездки в Константинополь появилась некая осмысленная и важная цель. Тоска улетучилась, и хотя этот Золотой Ипподром стал для великого ритора определенным испытанием, Киннаму вполне удавалось держать себя в руках и быть веселым, остроумным и галантным, как всегда. Правда, на этот раз он меньше времени проводил в ближайшем окружении августы, вел себя предельно корректно и был более сдержан в общении, чем обычно, чтобы развеять любые подозрения по поводу их отношений.
На балу в первый день Ипподрома, когда великий ритор пригласил августу на вальс, она заговорила о его третьем романе.
– Я прочла «В сторону Босфора», Феодор, и хочу поздравить вас: это один из лучших романов, которые я вообще когда-либо читала! Мне даже временами… становилось больно при мысли, что вы должны были пережить, чтобы написать так! Я… теперь я понимаю… Мне правда очень жаль!
– Не будем об этом, августейшая, – проговорил Киннам почти небрежно, но только Бог знал, чего ему стоил этот тон. – Пусть всё это останется для нас хорошей литературой. О книге можно говорить, ее можно обсуждать, а что до автора… Ему лучше остаться в тени. Ведь если б он не признался вам в некоторых вещах, вы бы вряд ли поняли так этот роман, не правда ли?
– Наверное, – призналась она смущенно. – Простите меня, мне не хотелось причинить вам боль!
– О, я не подозревал вас в таком желании, ваше величество! Но я осмелюсь просить вас больше никогда не поднимать между нами эту тему.
– Да, Феодор, конечно!
Императрица в этот раз вела себя гораздо сдержанней, без того кокетства, которое сбило с толку великого ритора на прошлых бегах, но и без неприязни или скованности: она выполняла данное Киннаму обещание, что они останутся «хорошими друзьями». Что ж, друзьями так друзьями – у него нет выбора! Возможно, окружающим они отвели глаза своим благоприличным поведением, но Евдокия, как почудилась Феодору, не слишком обрадовалась его новой манере общения, хотя открыто показать разочарование тоже не могла – как и он, она находилась между двух огней. О да, он догадывался о причинах ее тайного недовольства!
Ведь что значило – остаться друзьями? Это как будто подразумевало: сохранять тот стиль общения, который существовал до прошлого Ипподрома, – но Феодор сознавал, что это нереально. Слишком многое они узнали друг о друге, слишком большое потрясение пережили друг из-за друга. Правда, это могло бы способствовать углублению дружеских отношений, и августа, видимо, была не против: чего ей опасаться, в самом деле? Он больше не позволит себе никаких вольностей по отношению к ней, а она не питает к нему ничего, кроме дружеских симпатий… Однако подобная дружба сейчас больше страшила его, чем привлекала. Когда Евдокия предложила ее четыре месяца назад, он не спешил принять, потому что надеялся на большее и думал, что августа намекала именно на это, – а теперь, когда стало ясно, что большее невозможно, ему хотелось, скорее, сохранить между ними прежнюю дистанцию, потому что близкая дружба грозила стать для него слишком суровым испытанием. Мучаясь жаждой, не просто видеть перед собой стакан воды, а подносить его к губам, даже проглатывать несколько капель, но не сметь пить дальше – какая пытка!
Нет, восстановить прежние отношения так, словно ничего не произошло, уже нельзя. О чем бы они ни говорили, как бы серьезны или, напротив, легки и веселы ни были темы их бесед, за кадром теперь всегда существует знание того, что он безумно ее любит, а она смотрит на него лишь как на друга. И он понимал, что ей втайне очень приятно быть предметом его страсти… Но можно ли осуждать ее за это? Ведь он сам слишком хорошо знал это сладострастье власти над чужой душой, которому так трудно противиться! И хотя Феодор старался общаться с августой как ни в чем не бывало, внутренне он чувствовал себя не слишком уютно. Когда-то он мечтал открыть ей душу, а теперь даже разговоры на самые обычные и нейтральные темы давались ему нелегко: какой во всем этом смысл? Ведь она не любит его и никогда не полюбит…
К тому же он замечал или, скорее, ощущал спинным мозгом, что император следит за ним – это тоже не давало расслабиться и раздражало. Киннам снова задавался вопросом, знает ли августейший о событиях той бурной ночи или нет, догадался ли о его подлинных чувствах к августе или считает его просто дерзким соблазнителем и ловеласом. Последнее было несправедливо, а первое – унизительно. Едва ли император, узнав правду, мог бы посочувствовать ему? Если и мог, то, скорее всего, снисходительно или тщеславно, с тайным удовлетворением, видя перед собой поверженного соперника, который навсегда обречен держаться в рамках приличия…
Черт же его дернул в ту ночь признаться ей в любви!..
«Ничего, – пытался он себя утешить, покинув бальный зал, чтобы сыграть с синкеллом несколько партий на бильярде, – скорее всего, это только поначалу, еще свежи воспоминания, потрясение, горечь… и оскорбленное самолюбие, конечно! Я еще не вполне пришел в себя. К следующему Ипподрому я успокоюсь и перестану так дергаться. Любая рана, если она не смертельна, когда-нибудь заживет…»
Внезапно он вспомнил об Афинаиде и подумал: «Она даже после такого мрака, такого крушения надежд и отчаяния нашла силы жить дальше, начать практически с нуля! А я что же раскисаю? Подумаешь, получил по морде! В следующий раз буду умнее, вот и всё. Впрочем, следующий раз вряд ли будет… но и это по-своему неплохо. Хватит уже этих глупостей! Надо жить, работать… У меня есть наука, в нее можно вкладываться до бесконечности, киснуть некогда! Сколько ученых становились монахами ради науки, и это куда достойнее, чем стать монахом из-за женщины! Видимо, вся эта история и случилась для того, чтобы я это понял. Да еще и писателем стал заодно. – Киннам мысленно усмехнулся. – Что ж, тоже неплохо, еще один способ себя занять! Вот и новый сюжет сам собой образовался… Да, надо помочь Афинаиде выйти в люди. И я это сделаю».
В тот вечер он еще дважды танцевал с августой, и минутами ему удавалось забыть о своей боли: исчезали и время, и всё окружающие, были только музыка и они двое, и упоение, и наслаждение, которое ему всегда доставлял танец с этой божественной женщиной… Не хотелось ни о чем говорить, хотелось просто скользить по залу, держа ее в объятиях; но августа, напротив, старалась поддерживать разговор, словно молчание ее стесняло. Когда они танцевали Босфорский вальс, Евдокия спросила, над чем Феодор сейчас работает. Вопрос был поставлен обтекаемо, однако Киннам догадался, что ее интересует прежде всего его литературное творчество, но она не решалась спросить об этом прямо, памятуя его летнее признание, что он писал романы, пытаясь избавиться от тоски по ней. Он ответил, что заканчивает монографию про Анну Комнину и ее интеллектуальное окружение, собирается писать и новый роман, но пока еще только обдумывает его. Великий ритор говорил непринужденно, показывая, что эта тема не тяжела для него, и почувствовал, что императрица обрадовалась. Но почему их беседа как-то незаметно иссякла?.. Потом он не мог вспомнить этого, хотя пытался. Запомнилось ему лишь то, как он вдруг словно очнулся от вопроса:
– О чем вы задумались, Феодор?
– Я?.. Да так, ваше величество, пришли на ум научные дела. – Он улыбнулся и рассказал свежий анекдот из жизни академической элиты.
Однако вопрос августы заставил Киннама осознать странную вещь: впервые, танцуя с Евдокией, он вдруг стал думать не о ней, а о девушке с зеленовато-карими глазами, которая вряд ли умела танцевать.
***
Константин сидел за большим рабочим столом в яшмовом кабинете дворца Дафны. Эту комнату еще в девятнадцатом веке повелел отделать красноватым камнем Василий VI: он верил, что яшма хорошо помогает от болезней глаз. Правда, пользы последнему Палеологу от нее было немного…
Автократор ромеев был одет в поношенный пурпурный гиматий, который хорошо сочетался с красноватым камнем столешницы и стенных панелей – настолько хорошо, что бледное озабоченное лицо императора, обрамленное седеющей, но еще достаточно черной бородой, казалось неуместным добавлением к гармоничному интерьеру, напоминало наспех сделанную маску из музея восковых фигур. И всё же оно было живое, с блестящими карими глазами и подвижными густыми бровями.
– Так вот, – рассказывал синкелл, сидевший напротив за небольшим столиком для докладов, – когда дверь захлопнулась, они, видимо, испугались и сразу вломились в алтарь. Попробовали разбить окно в апсиде и вылезти наружу.
– Получилось? – мрачно спросил император.
– Они же думали, что раз решетки нет, то и проблем не будет. – Синкелл усмехнулся. – В общем, два подсвечника расплющили о стекла, а тут и астиномия подоспела…
Сквозь старинные мутноватые стекла двух окон за спиной императора лился тусклый зимний свет. На дворе можно было различить силуэты соседних построек и голых деревьев сада, небо же почти закрывала громадная колоннада ипподрома. Там, несмотря на пасмурный и холодный день, кипели страсти, стотысячная толпа на трибунах по временам взрывалась то диким воем, то аплодисментами. Порой небо над Городом светлело, и тогда очертания предметов становились резче, а полутени пропадали.
Третий день Рождества Христова, второй день зимнего Золотого Ипподрома. Серые и мокрые декабрьские дни, безусловно, не очень благоприятствуют веселью, но что поделать – традиция, болельщикам всё нипочем, да еще Календы…
До самодержца звуки с ристалища долетали только в виде неясного и негромкого гула. В большом камине весело трещали дрова, было тепло и уютно. Если бы не заслонявшая огонь черная худощавая фигура Иоанна и не принесенные им новости, можно было бы благодушествовать… Впрочем, Константин уже довольно долго пребывал в тревожном состоянии, в предчувствии надвигающейся бури, так что известия о сегодняшнем происшествии не разрушили мирный пейзаж, а, скорее, дополнили новыми мазками батальное полотно.
Несколько часов назад, утром, когда почти весь Город был занят начавшимися состязаниями, восемь девиц в длинных плащах вошли в Круглую Усыпальницу – одну из многочисленных пристроек к храму Апостолов, – где покоились императоры династий Ласкарисов и последних Палеологов и был устроен небольшой алтарь для поминальных служб. Там, на глазах экскурсионной группы, состоявшей из японских пенсионеров – только старики в этот день и могли осматривать достопримечательности столицы, – они скинули маскировку и, оказавшись в ярких клоунских майках и разноцветных чулках, исполнили какую-то странную песню, сопровождавшуюся дикой пляской, взывая вроде бы к усопшему императору Иоанну ХI Ласкарису. Никто, понятное дело, слов разобрать не смог, да и не пытался: туристы в ужасе выбежали на улицу, а смотритель не нашел ничего лучшего, как выскочить вслед за ними и захлопнуть входную дверь.
В сети вскоре появилась видеоверсия выступления с подложенным в студии звуком: девицы просили императора восстать, разогнать алчных попов и опять утвердить повсюду веселье и радость. Нечего и говорить, адресат был выбран удачно: именно Иоанн Веселый в 1728 году не только в очередной раз уменьшил квоту на церковные имения, но и обложил духовенство чрезвычайным налогом, а на собранные деньги начал строить театры и с размахом давать представления. Время для акции тоже оказалось подходящим: в эти дни весь мир смотрел на Константинополь, высокие гости съезжались тысячами, и тут такое…
Хулиганок уже несколько часов держали в астиномии, следователи пытались разобраться в мотивах странного поступка, но пока впустую: преступницы находились в полушоковом состоянии и в основном отмалчивались. Сообщили только, что все они входят в некую авангардистскую поп-группу, название которой привести отказались.
– Собственно говоря, почему ты, отче, хочешь каких-то инструкций? – спросил Константин. – Есть судьи, пусть они решают, кого и за что наказать.
– Государь, с формальной точки зрения нарушены прежде всего твои права, ведь Апостолия со всеми усыпальницами – собственность императорской фамилии, – спокойно ответил синкелл, глядя в глаза самодержцу. – А собственник вправе заявлять о том, какие именно его права нарушены. Здесь можно усмотреть много всяких преступных деяний…
– Что же им можно инкриминировать? – задумчиво произнес император. – Порчу имущества?
– И надругательство над местом упокоения. А также оскорбление веры, величества.
Император поморщился.
– Я никогда не понимал этого закона. Как можно нарушить покой того, кто давно покойник? Иоанна не оскорбляли, не вынимали из гроба, лишь просили восстать – к счастью, безуспешно. А танцем его, пожалуй, изрядно развлекли, покойный был до них охоч. Вот что в алтарь ворвались, это, конечно, безобразие. А что говорит святейший?
– Он возмущен, но более всего тем, что оскорблена особа усопшего императора и сама идея самодержавной власти, так сказать, – ответил Иоанн, скосив глаза в угол.
– Вот уж идея точно потерпит, – отрезал Константин. – Я за нее вступаться не буду, к чему нам пустые скандалы вокруг императорской фамилии? Хорошая идея всегда защищается самостоятельно. И вообще, это очень несвоевременно, только усилятся все эти разговоры о тирании…
– Какие разговоры? – Синкелл удивленно вскинул брови. Он даже закрыл свою папку и слегка откинулся на спинку стула.
– Тебе они не слышны? Зато мне слышны хорошо. Все эти «захватчики Большого Дворца», хурритские доброхоты, промотавшиеся торговцы, тунеядцы – все вдруг заговорили о зажиме общественной жизни и критики!