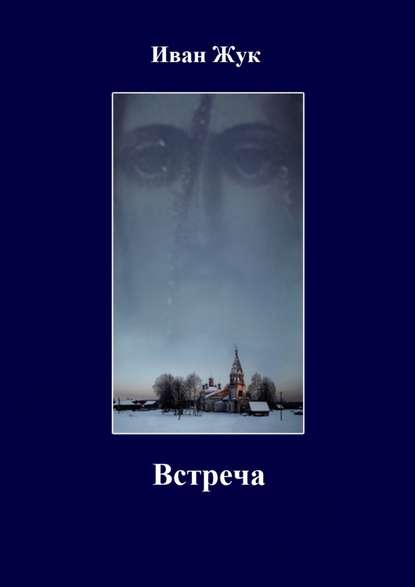По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Встреча
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Карнаухов истошно взвизгнул, в последний раз содрогнулся и, истекая потом, рухнул в беспамятстве на подушку. А как только священник продолжил службу, Юрий Павлович содрогнулся и впервые после его кутежа во время банного дня, когда в палате не было ни Ивана Яковлевича, ни о. Самсона, членораздельно и сдавленно прошептал:
– Пить.
Марина, как ошалелая, смотрела то на него, то на священника, чинно и благородно продолжавшего службу в непосредственной близости от икон.
– У него что, малярия? – кивнув в сторону Карнаухова, спросила она у дочери.
– Малярия, – вздохнула Лена.
А потом был погожий весенний день. Мартовская капель стучала по подоконнику.
Внизу во дворе больницы по искрящимся на солнце лужам Миронка перепрыгивал с камня на камень: он нес к больнице ведро со щебнем.
А у окна, сбив в открытую форточку пепел от сигареты, Марина сказала дочери:
– Что-то я не пойму. Вроде бы он, а вроде бы и не он. Далекий какой-то, чужой. Хотя глаза и добрые.
– Ладно, мама. Пойдем, – сказала Лена. – Бери, – взялась она за огромный тюк с выстиранным бельем.
Мать подхватила тюк с дугой уже стороны, и они вместе с дочерью вынесли тюк из прачечной.
Оказавшись опять в знакомом больничном коридоре, Марина сказала, волоча вместе с дочерью белье вдоль цепи белых дверей с табличками:
– А еще эти молитвы. Неужто он в Бога верит? В двадцать-то в первый век!
– От Рождества Христова, – напомнила Лена матери и принялась заворачивать вместе с тюком за угол.
Как и обычно, Иван Яковлевич находился в своем углу. Он стоял у стены и прислушивался к чему-то, а группа собравшихся посетителей, затаив дыхание, благоговейно за ним следила.
Внезапно отскочив от сидящего на постели Карнаухова, поэт Сырцов ринулся прочь от привставшей за ним пожилой женщины в сером пальто и пуховом платке:
– Не хочу я домой! Мне и здесь неплохо! Тепло, кормят, и никто тебя не трахает!
Следя невинными, как у младенца, глазами за убегающим от матери Сырцовым, Карнаухов болезненно сморщился и едва-едва не заплакал от страха.
Иван же Яковлевич, потирая апельсином стену, процитировал:
Ну, так живи: страдай, и до могилы
Покорно крест неси, учись терпеть,
Молись Творцу, проси любви и силы
Для Бога жить, за братьев умереть!
Услышав свои стихи, поэт растерянно оглянулся. Он взглянул на Ивана Яковлевича, потом – на мать. И примирительно просопел, вздыхая:
– Ну, хорошо. Давай попробуем.
– Давай, сынок, – обрадовалась мать. – А то от людей стыдно!
– У-у-у! – закатив глаза, поэт был готов снова бежать от матери, однако Иван Яковлевич напомнил:
– …проси любви и силы: для Бога жить, за братьев умереть! Хорошие стихи, не правда ли? Вы со мною согласны? – спросил он у матери поэта.
– Что? Вы – меня? Ну, конечно, – видя устремленные на нее взгляды дюжины посетителей и самого Корейшева, с улыбкой кивнула мать.
– А ведь это ваш сын их сочинил! – поднял Корейшев палец. – Ему их Сам Бог открыл. Какая премудрость: «проси любви и силы для Бога жить, за братьев умереть!»
Открылась дверь. Вошли Лена и Марина. Они внесли тюк с бельем.
– Так, обмен белья, – сказала Лена, и Алик первым метнулся на помощь женщинам.
Проходя за дочерью к койке о. Самсона, Марина покосилась на Корейшева.
– Доброе утро, сестрица, – помахал ей тот из угла. – Как спалось?
– Хорошо, – растерялась женщина. – А чего не так?!
– Да нет, всё так. Просто поинтересовался, – улыбнулся в ответ Корейшев, и Марина, пожав плечами, прошла за Леной к койке о. Самсона.
Женщины принялись стаскивать с постели о. Самсона грязные простыни и наволочки, а в это время Иван Яковлевич со своего угла запел вдруг молитву к Пресвятой Богородице. Он пел так тихо и проникновенно, что Марина поневоле занервничала: движения ее стали резче, лицо – злее.
– Мама, наволочку порвешь! – предупредила ее Лена.
– Не порву, – отрезала мать, и тут у нее сломался ноготь.
Лизнув окровавленный палец, Марина скривилась и вдруг ощерилась:
– Ну хватит тебе уж выть! Что жилы-то из меня вытягиваешь?! Чего ты от меня хочешь? Чего добиваешься?!
Прекращая петь, Иван Яковлевич сказал:
– Нет, родненькая, это не я – это Господь тебя призывает.
– У-у-м, Иисусик! – зарычала Марина вдруг и, отбрасывая окровавленную наволочку на пол, бочком поспешила к двери. – Ненавижу! Эту твою улыбочку! Всю жизнь мою исковеркал! Дочку в дурочку превратил! А теперь распелся! Не-на-ви-жу!
И она понеслась к двери ещё стремительнее и резче.
Правда, дверь распахнулась раньше, чем до нее добежала женщина. И прямо в дверном проеме Марина столкнулась лицом к лицу со щупленьким, сгорбившимся Миронкой, который вносил как раз со двора очередное ведро со щебнем.
Налетев на ведро, Марина отпрянула от Миронки. От столкновения с женщиной ведро с мусором опрокинулось и с грохотом полетело на пол. Марина тоже упала рядом. И, схватившись руками за ногу, скривившись от боли, простонала:
– У-у-м!
Взглянув на нее, скорчившуюся под дверью, Иван Яковлевич отступил к иконам, опустился перед ними на колени и начал безмолвно молиться Богу.
К Марине же со всех сторон сбежались Миронка, Лена, Алик, поэт Сырцов и даже о. Самсон.
– Мама! – склонилась к Марине Лена. – Больно?! Миронка, Алик, перенесите её в палату.
Карнаухов истошно взвизгнул, в последний раз содрогнулся и, истекая потом, рухнул в беспамятстве на подушку. А как только священник продолжил службу, Юрий Павлович содрогнулся и впервые после его кутежа во время банного дня, когда в палате не было ни Ивана Яковлевича, ни о. Самсона, членораздельно и сдавленно прошептал:
– Пить.
Марина, как ошалелая, смотрела то на него, то на священника, чинно и благородно продолжавшего службу в непосредственной близости от икон.
– У него что, малярия? – кивнув в сторону Карнаухова, спросила она у дочери.
– Малярия, – вздохнула Лена.
А потом был погожий весенний день. Мартовская капель стучала по подоконнику.
Внизу во дворе больницы по искрящимся на солнце лужам Миронка перепрыгивал с камня на камень: он нес к больнице ведро со щебнем.
А у окна, сбив в открытую форточку пепел от сигареты, Марина сказала дочери:
– Что-то я не пойму. Вроде бы он, а вроде бы и не он. Далекий какой-то, чужой. Хотя глаза и добрые.
– Ладно, мама. Пойдем, – сказала Лена. – Бери, – взялась она за огромный тюк с выстиранным бельем.
Мать подхватила тюк с дугой уже стороны, и они вместе с дочерью вынесли тюк из прачечной.
Оказавшись опять в знакомом больничном коридоре, Марина сказала, волоча вместе с дочерью белье вдоль цепи белых дверей с табличками:
– А еще эти молитвы. Неужто он в Бога верит? В двадцать-то в первый век!
– От Рождества Христова, – напомнила Лена матери и принялась заворачивать вместе с тюком за угол.
Как и обычно, Иван Яковлевич находился в своем углу. Он стоял у стены и прислушивался к чему-то, а группа собравшихся посетителей, затаив дыхание, благоговейно за ним следила.
Внезапно отскочив от сидящего на постели Карнаухова, поэт Сырцов ринулся прочь от привставшей за ним пожилой женщины в сером пальто и пуховом платке:
– Не хочу я домой! Мне и здесь неплохо! Тепло, кормят, и никто тебя не трахает!
Следя невинными, как у младенца, глазами за убегающим от матери Сырцовым, Карнаухов болезненно сморщился и едва-едва не заплакал от страха.
Иван же Яковлевич, потирая апельсином стену, процитировал:
Ну, так живи: страдай, и до могилы
Покорно крест неси, учись терпеть,
Молись Творцу, проси любви и силы
Для Бога жить, за братьев умереть!
Услышав свои стихи, поэт растерянно оглянулся. Он взглянул на Ивана Яковлевича, потом – на мать. И примирительно просопел, вздыхая:
– Ну, хорошо. Давай попробуем.
– Давай, сынок, – обрадовалась мать. – А то от людей стыдно!
– У-у-у! – закатив глаза, поэт был готов снова бежать от матери, однако Иван Яковлевич напомнил:
– …проси любви и силы: для Бога жить, за братьев умереть! Хорошие стихи, не правда ли? Вы со мною согласны? – спросил он у матери поэта.
– Что? Вы – меня? Ну, конечно, – видя устремленные на нее взгляды дюжины посетителей и самого Корейшева, с улыбкой кивнула мать.
– А ведь это ваш сын их сочинил! – поднял Корейшев палец. – Ему их Сам Бог открыл. Какая премудрость: «проси любви и силы для Бога жить, за братьев умереть!»
Открылась дверь. Вошли Лена и Марина. Они внесли тюк с бельем.
– Так, обмен белья, – сказала Лена, и Алик первым метнулся на помощь женщинам.
Проходя за дочерью к койке о. Самсона, Марина покосилась на Корейшева.
– Доброе утро, сестрица, – помахал ей тот из угла. – Как спалось?
– Хорошо, – растерялась женщина. – А чего не так?!
– Да нет, всё так. Просто поинтересовался, – улыбнулся в ответ Корейшев, и Марина, пожав плечами, прошла за Леной к койке о. Самсона.
Женщины принялись стаскивать с постели о. Самсона грязные простыни и наволочки, а в это время Иван Яковлевич со своего угла запел вдруг молитву к Пресвятой Богородице. Он пел так тихо и проникновенно, что Марина поневоле занервничала: движения ее стали резче, лицо – злее.
– Мама, наволочку порвешь! – предупредила ее Лена.
– Не порву, – отрезала мать, и тут у нее сломался ноготь.
Лизнув окровавленный палец, Марина скривилась и вдруг ощерилась:
– Ну хватит тебе уж выть! Что жилы-то из меня вытягиваешь?! Чего ты от меня хочешь? Чего добиваешься?!
Прекращая петь, Иван Яковлевич сказал:
– Нет, родненькая, это не я – это Господь тебя призывает.
– У-у-м, Иисусик! – зарычала Марина вдруг и, отбрасывая окровавленную наволочку на пол, бочком поспешила к двери. – Ненавижу! Эту твою улыбочку! Всю жизнь мою исковеркал! Дочку в дурочку превратил! А теперь распелся! Не-на-ви-жу!
И она понеслась к двери ещё стремительнее и резче.
Правда, дверь распахнулась раньше, чем до нее добежала женщина. И прямо в дверном проеме Марина столкнулась лицом к лицу со щупленьким, сгорбившимся Миронкой, который вносил как раз со двора очередное ведро со щебнем.
Налетев на ведро, Марина отпрянула от Миронки. От столкновения с женщиной ведро с мусором опрокинулось и с грохотом полетело на пол. Марина тоже упала рядом. И, схватившись руками за ногу, скривившись от боли, простонала:
– У-у-м!
Взглянув на нее, скорчившуюся под дверью, Иван Яковлевич отступил к иконам, опустился перед ними на колени и начал безмолвно молиться Богу.
К Марине же со всех сторон сбежались Миронка, Лена, Алик, поэт Сырцов и даже о. Самсон.
– Мама! – склонилась к Марине Лена. – Больно?! Миронка, Алик, перенесите её в палату.