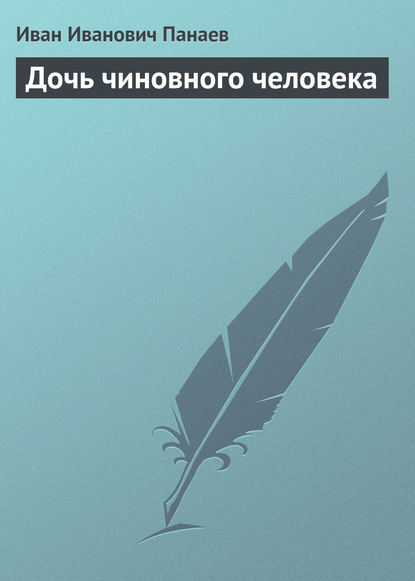По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дочь чиновного человека
Автор
Год написания книги
1839
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что совершалось в душе художника в эту минуту, когда говорила она?
Он стоял, скрестив на груди руки и не отводя глаз от нее. Как бы хотелось ему слова ее превратить в краски, рассказ ее перенести на полотно! Это была бы чудесная картина, думал он… Сумрак объял все – и воды, и лес, и неизмеримое пространство полей… На картине нет людей, только одна она – эта девушка, благоговейно созерцающая необъятное величие творца в творении…
– Уж мастерица рассказывать, – сказала старушка, приподнимаясь со стула и смотря на своего сына, – нечего говорить – мастерица! Словно соловей поет. Постой-ка, матушка, вот я схожу на кухню, и ту же минуточку возвращусь к тебе.
Старушка вышла. Они остались вдвоем. Это было в первый раз. Минуту они оба молчали, потом она оборотилась к нему.
– Что, вы скоро окончите вашу картину? – спросила она его робким голосом.
– Не знаю, право; может быть, недели через две, через три.
Она подошла к станку.
– Вы мне позволите посмотреть?..
Александр вдруг изменился в лице при этом вопросе, – она еще не видала оконченным лицо Ревекки.
Он стоял перед нею, как преступник, потупив голову и не смея взглянуть на нее.
Долго и пристально смотрела девушка на это полотно, чародейно одушевлявшееся под перстами его, и вдруг, может быть, узнав себя в Ревекке, как будто испуганная этой мыслию, вздрогнула и оборотилась к нему… Ни он, ни она не сказали ни слова, но он и она поняли друг друга.
– Я не мог выразить в этом лице того, что хотел, – решился наконец заметить он. – Горе иметь посредственное дарование! лучше быть простым ремесленником.
«Таково сомнение гения, – подумала она, – так сомневался и Корреджио».
– Я не могу дать жизни этим глазам, – продолжал он после минуты задумчивости, – посмотрите, они не говорят так, как те глаза, которые я видел, не теплятся чувством, как они.
Он ждал ответа и решился взглянуть на нее. Ответа не было, и, кроме тяжкой грусти, ничего не выражало лицо ее. Она отошла от станка и прислонилась к стене. Тогда кто-то постучался у дверей в прихожей, она вздрогнула. В комнату вошел, низко раскланиваясь, какой-то человек в вицмундире, с зеленоватыми крошечными глазками, которые двигались с удивительною быстротою из стороны в сторону.
– Вы господин Средневский-с, живописец? – спросил он, обращаясь к Александру и улыбаясь.
– Я. Что вам угодно?
– Извините-с, что вас обеспокоил, – имею желание списать с себя портрет, то есть не собственно для себя, а так, единственно по просьбе одной моей знакомой девицы. Пристает все ко мне: спишите, говорит, портрет с себя. Видно, желает иметь вроде сувенира, что ли-с, уж не могу вам достоверно сказать. Вас мне рекомендовали с весьма отличной стороны-с.
Тут глаза чиновника встретились с глазами Софьи – и он заикнулся.
– У меня нет времени исполнить ваше желание, – говорил Александр, невольно улыбаясь и выпроваживая его от себя самым учтивым образом, – обратитесь к кому – нибудь другому.
– Очень хорошо-с, не взыщите, что помешал-с, что… – Он еще раз искоса посмотрел на Софью и начал пятиться к двери, озираясь между тем кругом и заглядывая на картину.
– Эта картина не кончена, ее нельзя смотреть! – вскрикнул Александр, взяв чиновника за руку и отводя его от станка.
– Ах, извините-с! А какая она большая, должно быть-с что-нибудь в роде «Последнего дня Помпеи». Мое почтение-с!
– Прощайте. – И Александр с досадой захлопнул за ним дверь.
Она все стояла на том же месте, прислонясь к стене. Когда он подошел к ней, она сказала:
– Я здесь одна. Где же ваша матушка?
Она хотела сказать: «Я не должна быть здесь одна с вами», – но в эту минуту вошла старушка, кашляя и извиняясь, что захлопоталась на кухне.
В то же утро Аграфена Петровна знала о том, что черномазенькая барышня была в гостях у Палагеи Семеновны и сидела одна с ее сыном. «Вероятно, у них было решительное любовное объяснение, – подумала она. – Хорошо! теперь вы оба, голубчики, в моих руках!»
Глава VI
Художник! Как я не люблю этого слова. Ну, что это такое? Другое дело – барин, вот это слово что-нибудь да значит!
Из разговора барыни
– От материнского сердца ничего не укроется; поверь ты мне, я очень хорошо вижу, что ты неспроста так печалишься. У тебя есть что-то на душе. Картина твоя, кажись, кончена; все художники не нахвалятся ею, просят у тебя позволения ее выставить, говорят, что ты выручишь за нее хорошие деньги. Чего бы лучше? С помощию божьею мы устроим наши делишки. Уж после этого тебе не нужно будет покровительства какой – нибудь Аграфены Петровны! – Так говорила однажды Палагея Семеновна сыну, который стоял в раздумье перед своею оконченною Ревеккою.
– Нет, я не отдам этой картины, матушка! Пусть люди засыплют меня грудами денег, я не отдам ее и за эти груды! К чему мне будет блеск их золота, когда они у меня отнимут ее? Нет, я не могу, я не расстанусь с нею ни за что в свете. Вам, может быть, это кажется странным? Но тут, право, нет ничего странного. Художнику тяжело разлучаться с своим созданием, с этим созданием, которое он лелеял и дни и ночи, с мыслию о котором засыпал и просыпался, которое сроднилось с ним, сжилось с его существованием, которое составляет часть его самого, – разлучиться и навсегда! Поэт – другое дело. О, в этом случае он гораздо счастливее художника: его творение всегда с ним! Вы понимаете меня? Я выменяю эту картину на деньги и не увижу ее более.
– Ну, конечно, если тебе так тяжело расстаться со своею картиною, то оставь ее при себе: спокойствие дороже денег. Видеть тебя, друг мой, веселым и счастливым – в этом все мое счастие. Но ты еще не продал картины, а уж ходишь такой скучный, не пьешь, не ешь ничего. Ах ты, господи! что это с тобою сделалось? Будь откровенен со своею матерью. У тебя никого нет, кроме меня, а вместе и горевать легче, голубчик мой! Боюсь я подумать, не любовишка ли сокрушает тебя! Дело известное, молодой человек, – еще в этом нет никакого греха!
– Ради бога, оставьте меня, матушка, я прошу вас…
– Друг мой, Сашенька, не говори мне так, не обижай своей старухи. – И слезы катились по лицу ее. – Уж как ты хочешь, а я не оставлю тебя, я и без того долго молчала. Я знаю, почему ты не хочешь продать своей картины. Причина, о которой ты говоришь, может статься, сама по себе; а есть другая… Ох, не скрывай, от меня этого. Я знаю – я вижу все.
Он посмотрел на мать с выражением глубокой муки; краска вдруг пропала с лица его. И он, безмолвный, грянулся к ногам ее, дрожа всем телом.
– Встань, встань, Саша! Мне и без того тоишнехонько… Встань, голубчик. – Она не говорила, а рыдала.
– Родная, мне так легче… – И он целовал ее ноги.
– Встань да садись возле меня. Вот, что я хочу сказать тебе. Послушай меня, старуху: хоть ты и умнее меня, и ученее меня, да ты молод, неопытен. Отца нет у тебя… Скажи, ты очень любишь меня?
– Можете ли вы в этом сомневаться?
– Да, ты любишь меня… – И она гладила его волосы… – Очень любишь. Экая я дура, об этом спрашивать!.. Но я сама не знаю, что говорю. Дай-ка мне подумать хорошенько. – Она отерла рукою слезы. – Да, вот что: мы люди бедные и незначащие: нам не должно заноситься высоко. Покойник отец твой говаривал (упокой господи его душу! Никогда не забуду слов его): «Все несчастия оттого происходят, что люди всё, видишь ли, вон лезут из своего состояния, всё хотят выше… Всякий сверчок знай свой шесток»; а покойник никогда ничего не говаривал даром. И мне тоже сдается, уж коли господь бог указал нам наше место, так не будем гневить его и останемся на этом месте, – так, видно, надобно. Есть и в нашем состоянии девушки хорошие, добрые. Сашенька, друг мой, если можешь, оставь свои мысли – и мы хоть без денег, а все-таки будем спокойны и счастливы. А эта любовь до добра не доведет, вспомни мое слово.
– Мне грешно было бы перед вами скрываться – я должен высказать вам все. Не вините меня, матушка, что я полюбил ее, эту девушку, которая выше меня всем. Что же мне делать? Я и сам не знаю, как это сделалось, но я люблю ее, люблю всею силою души моей…
– Что об этом говорить, ее нельзя не любить! Ах, если бы она не была такого знатного происхождения! шутка, дочка такого важного человека! Она-то, голубушка, и не думает об этом, но ты видел ее мать: сам ты знаешь, какая она важная; она нас, простых людей, и людьми-то не считает, а отец ее, говорят, еще гордее.
– Что мне за дело до ее отца и матери? Лишь бы она не пренебрегала мной, лишь бы она понимала меня… И что мне за дело до ее происхождения? Я люблю ее душу, ее ум, ее сердце; кто бы она ни была, для меня все равно. Разумеется, я не могу быть ее мужем, но, божусь вам, мне более ничего не нужно, как глядеть на нее, любить ее, слушать ее речи… Она будет моею светлою мечтою, моим вдохновением, моею святынею.
– Бог тебя знает, что это ты говоришь, Саша! Полюбить – значит захотеть жениться, это так искони века водится. Например, полюби ее какой-нибудь граф или князь, то есть посватайся за нее, ее сейчас выдадут замуж и не спросят у нее, у бедной, и согласия. Это знатные всегда так делают. Он задумался.
– Что вы говорите, матушка? Всегда так делают? Нет, это делывали в старину, но теперь, когда мы все стали так образованны, – теперь такой поступок считается варварством. Выдать девушку замуж против ее согласия… Невозможно!
– Ничего-то ты не знаешь, как посмотрю я. Еще и такие ли вещи делаются теперь? Ученость ваша, видно, не помогает. У кого нет доброго сердца, так хватай тот хоть звезды с неба, да что в этом толку? Не будь у нее доброго сердца, она так же бы, как другие, пренебрегала нами и не ходила бы сама, моя голубушка, украдкой от отца и от матери к нам, и не думала бы утешать нас и помогать нам. Бог заплатит ей за доброе дело!..
Старушка замолчала, облокотилась рукой на стул и вздохнула; потом через минуту продолжала вполголоса: «Да и она, как видно, совсем забыла нас; сколько времени перестала ходить к нам! Правда, она не от себя зависит. Ну, да что об этом говорить! Будь ты у меня только весел, здоров да молись почаще, и все пойдет хорошо, и старуха твоя будет счастлива…»
– Я буду веселее, будьте только вы покойны.