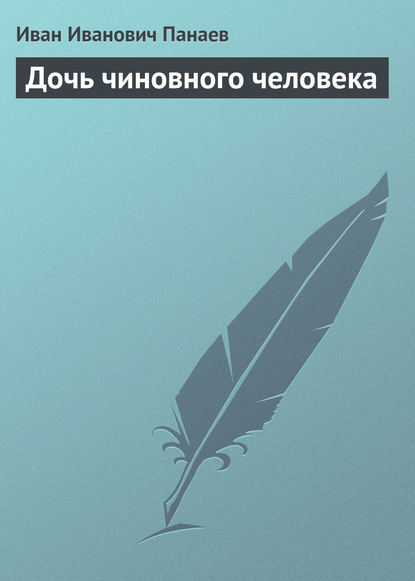По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дочь чиновного человека
Автор
Год написания книги
1839
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дай мне ее сейчас; я не хочу, чтобы записка моей дочери была в руках у… – Она не договорила. – Ну что же? Подай мне эту записку. Я приказываю тебе.
– Я не отдам ее вам ни за что! Делайте со мной, что хотите.
– Как ты смеешь?.. Я тебя не выпущу из дома.
– Убейте меня, старуху, коли вы не считаете это грехом, а тогда берите и записку.
– Дерзкая грубиянка! ты погубила дочь мою знакомством с этими тварями и еще осмеливаешься противиться мне; ты уморила ее!
Старуха вся затряслась, как в лихорадке.
– Нет, матушка ваше превосходительство! За нее, мою кормилицу, будет кто – нибудь отвечать богу, только не я. Не я уморила ее.
Она подошла к Надежде Сергеевне.
– Сказать ли вам, кто ее убил, матушка? Я знаю – и скажу это так же перед вами, как и перед богом. Я простая женщина…
– Кто? кто? – вскрикнула в бешенстве Надежда Сергеевна, сверкая глазами.
– Вы, сударыня! извините меня, я простая женщина: у меня что на уме, то и на языке.
Верно, такого ответа не ожидала Надежда Сергеевна, потому что она покачнулась и удержалась только рукою за кровать.
– Вон, вон с глаз моих! – прошипела она, – чтобы и духа твоего не было в моем доме!
Александр скоро узнал о болезни Софьи, и хотя ни он, ни мать его не думали, чтобы болезнь эта была так опасна, но они оба беспокоились, тем более, что няня ее давно не приходила к ним. Александр раз как-то попытался узнать о здоровье Софьи Николаевны у людей г-на Поволокина, но из ответа их не мог вывести никакого заключения. Все эти люди смотрели на него подозрительно и нехотя, односложно и грубо отвечали: «Больна, лежит». Он спросил Ивана, того самого человека, который всегда ходил за нею, – ему сказали, что он более уже двух недель как не живет у них. Дни медленно тянулись для старушки и ее сына – и вот в один вечер, когда они сидели вдвоем, сильно зазвенел колокольчик. Они оба вздрогнули и посмотрели друг на друга.
– Кто б это в такую пору? – сказала Палагея Семеновна.
Был час седьмой вечера. Александр со свечой пошел отворять дверь.
Он отворил дверь – и отшатнулся. Перед ним стояла няня Софьи. Голова ее тряслась, седые волосы беспорядочно торчали из-под платка, она все запахивала полы своего салопа. Александр хотел ее спросить, «что с нею?» – и не мог. Наконец она сказала:
– Ух, как сегодня холодно! Не топится ли у вас печка, дайте, ради Христа, погреться… Я едва дотащилась досюдова.
И Александр, с предчувствием чего-то страшного, смотрел на нее.
– Что с тобою, Федосья? – спрашивала Палагея Семеновна, сажая ее на стул, – откуда это ты? Где ты так назяблась? Я сделаю тебе чаю, ты немножко поотогреешься.
– Нет, вы уж не отогреете моих старых костей! Зажилась я, глупая баба, на свете; полно! Пора и честь знать… Дитятко мое сердечное! И могилку-то ее так скоро занесло снегом! Разрою этот снег, непременно разрою.
Александр почувствовал, что ледяные иголки колют его в темя.
У Палагеи Семеновны забилось сердце.
– Что это, не помешалась ли ты, Федосья?
– Помешалась! лучше бы помешаться, матушка Палагея Семеновна! – Она вынула из-за пазухи какую-то бумажку. – Вот вам весточка от моей барышни: приказала вам кланяться. Я сейчас только от нее. Она переехала в спокойное местечко.
Палагея Семеновна дрожащими руками развертывала бумагу, в которую вложена была записка.
– Позвольте, я прочту, матушка.
– Нет, погоди, погоди, Саша! – И старушка надевала очки. Она едва могла разобрать следующее:
«Благодарю вас за те немногие минуты счастия, которые вы мне доставили. И теперь, когда смерть возле меня, я вспоминаю об этих минутах; даже, мне кажется, только еще и живу этими минутами. Помолитесь о той, которая любила вас от всего сердца! Скажите вашему сыну, что он счастливейший человек в мире, потому что вы его мать. Пусть он бережет себя для вас и для искусства. До свидания – там! С*».
Старушка сняла очки. Крупные слезы лились по лицу ее.
– Господи! Помяни во царствии своем рабу свою Софию! – прошептала она, перекрестившись.
Четыре дня и четыре ночи после этого вечера Палагея Семеновна прострадала, не смыкая глаз. На ее руках умерла в горячке няня Софьи.
– Друг мой, не убивай себя и своей старухи, – говорила Палагея Семеновна сыну, когда все в их квартирке приняло прежний порядок после похорон старушки-няни, – подумай только о том, что наша Софья Николаевна теперь счастливее. Ты знал, какова была ее жизнь. Отслужим-ка лучше по ней панихиду, помянем ее и помолимся о душе ее.
– Матушка! Я не могу забыть ее… Она была моим небесным видением, моею мечтою о счастии. О, если б вы заглянули в мою душу! Но скоро, может быть, скоро и я успокоюсь. О, люди отвратительны, матушка!.. Я не хочу жить! Но я пойду к этому чудовищу, к этой убийце…
– Что это значит? ты не хочешь жить? Боязливо она посмотрела на сына.
– Признаюсь вам, я хотел бы умереть, матушка!
– Уж не хочешь ли ты?.. Да помилует тебя бог!.. А твоя мать? твоя мать? или уже она для тебя ничего? О, подумай о бедной твоей матери! – И старушка бросилась к ногам его, и голос ее был вопль отчаяния, звуки страданья невыносимого. – Хоть не для меня, друг мой, хоть не для меня, не я прошу тебя, – ты не послушаешь меня, если я тебе буду говорить, что такая смерть есть грех ничем не искупимый, ты все-таки не послушаешь меня! Но ты забыл слова ее, она приказывала тебе – это была последняя ее воля – беречь себя для твоей матери… Я достану тебе ее записку, перечти ее хорошенечко: воля усопшей – святая воля, нельзя противиться ей. – И старушка захлебнулась слезами; голова ее упала на пол. Александр забыл все; он бросился на колени перед лежавшей на полу матерью, приподнял ее и крепко прижал к груди своей.
– Простите меня, матушка! Я безумец, я не знал, что говорил. Бог свидетель, что с этой минуты вся жизнь моя принадлежит вам, вам одной!
Через две недели после похорон дочери его превосходительства у Осипа Ильича был вечер по случаю получения им давно ожиданного награждения, – и вечер, правду сказать, на славу!
На этом вечере не было особы ниже надворного советника; шампанское лилось, что называется, рекой: надо же было вспрыснуть награду! Аграфена Петровна удивительно расщедрилась и разлюбезничалась, даже сама подносила бокалы некоторым особенно почетным гостям.
– Мастерица угощать Аграфена Петровна! – сказал толстый и плешивый чиновник другому, тоненькому, с сердоликовой печаткой внизу жилета.
– Уж эту честь ей надо отдать! Знаете, что я вам скажу: великое дело угощение, то есть, просто от него все зависит в доме.
– Точно-с, справедливо-с заметить изволили.
– Да, да, я вам скажу, что надо уже так родиться на это: найти каждому сказать приличное словцо, к тому, к тому подбежать, с картой ли или с бокалом. В этом состоит уменье жить, светское обращение.
Толстый чиновник говорил прекрасно, и около него постепенно составился кружок слушателей. Таково всегда действие истинного красноречия! Все внимали ему с разинутыми ртами, и сам Осип Ильич не утерпел, подошел его послушать с двумя своими приятелями, с Марком Назарычем и Николаем Игнатьевичем.
– Вот я, – продолжал оратор, – я бываю везде, во всех лучших обществах, и уж пригляделся ко всему. Часто все хорошо, и угощение, и то и сё, а все недостает чего-то, – просто души нет в обществе. Конечно, нам, частным людям, нельзя давать такие балы, как, например, в Благородном собрании. Кто и потребует этого? Ну, там и комнаты большие, и освещение; одни свечи сколько стоят! ослепнуть можно, я вам скажу. Но мы, если не тем, так другим должны брать: мы, – я говорю о частных людях. Внимательность хозяйки, любезность – вот что приятно в гостях.
– Точно, точно! – послышалось со всех сторон.
– Его превосходительство господин Поволокин, ихний знакомый (оратор указал пальцем на Осипа Ильича), – человек отличный, барин – уж нечего сказать, и мало говорит, а что-то есть в улыбке располагающее, – и это, я вам скажу, много значит: как взглянет, и комплиментов не нужно. Жаль мне его, душевно жаль! Экое, подумаешь, несчастье: лишиться дочери. Впрочем, она всегда была что-то такая больная на вид. И мать-то бедная! ах, какая потеря!..
– Говорят, – сквозь нос заметил один чиновник, тоже очень важный и серьезный, – она была влюблена… правда ли это? Что-то странно… в какого-то живописца, да, знаете, занемогла по сему случаю и умерла.
– Да и я слышал-с, – закричал кто-то тонехоньким голоском, – тут было что-то не совсем чисто-с; она…