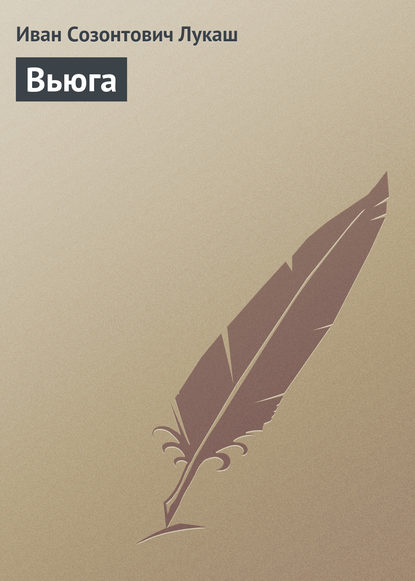По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах, как я рад тебе, Пашка, ты и представить не можешь, голубчик мой, молодец… Да вот времени нет, эшелон может тронуться.
Пашка смотрел на него и точно впервые узнавал в смутном свете вокзального фонаря. С жаркими глазами, в шинели с чужого плеча, с этой нелепой бородой клочьями Николай был настоящим, почему-то жалким и беспомощным, но настоящим старшим братом, какого он не знал никогда раньше.
– Я тебе только хочу сказать, Паша… Это, конечно, верно, что я банный генерал.
– Ну, Коля, опять.
– Нет, верно. Слабый я человек. Не вышел я как человек. Николай посмотрел на свои тощие руки, с робостью улыбнулся:
– А одно неверно. Неверно, что я Аглаю не любил. Я ее любил и люблю. Пашка побледнел.
– Я ей в Питер писал, в деревню, – грустно говорил Николай. – Она не отвечает. Почему же не отвечает, почему? Хотя бы два слова…
Пашка стиснул зубы до того, что на скулах задвигалась кожа, поднял голову с трудом:
– Коля, знаешь что, прошу тебя, не пиши ты Аглае.
– А что?
– Так, не пиши.
– Но почему?
– Видишь ли, она уехала из деревни, – Пашка заторопился. – Понимаешь, уехала, что же даром писать, не надо, она в Крым уехала или куда-то на юг. Понимаешь…
– Я же не знал… Теперь я понимаю. Это очень хорошо, что она в Крым уехала. Ане-то как хорошо будет. Теплынь. Как поправлюсь, обязательно поеду искать, какие бы там ни были фронты.
– Коля, я не знаю в точности, может быть, она не в Крыму, Коля.
Но Николай уже был уверен, что, без сомнения, найдет Аглаю в Крыму, ему даже казалось, что он найдет их почему-то в Симеизе.
– Пашка, а помнишь ли, как она в деревню уезжала, ведь я тоже на вокзале был. Только отвернулся от тебя, стыдно стало, что заметишь. Прости меня, братишка бедный, за все, что случилось.
– Ты ни перед кем и ни перед чем не виноват, Коля, ты чудный мой брат, самый хороший, какой есть на свете. Я тебя люблю.
– Постой, полно. Что я еще хотел спросить… Ей-Богу, голова кругом.
– Смотри, поезд пропустишь.
– А ты? Неужели, правда, к белым?
– Да.
– Молодец, Пашка. А я, брат, запутался. Потерянный я человек, конченый. Говорят, белых отбили, но они еще где-то тут, близко… Ах, ей-Богу, идти пора. И по ногам дует до черта… Если Аглаю увидишь у белых, скажи, прощения прошу. Так и скажи: Николай прощения просит за все, так и скажи.
– Хорошо. Я скажу. Хорошо.
Он повел брата под руку к эшелону. «Потерянный человек», – вспомнил он с жалостью его слова.
Темные теплушки скрипели, подавались, когда они подошли. Николай успел забраться на площадку, толкаясь о стенки.
– А Катя, как Катя? – стал он кричать в туман, с площадки, но Пашка уже не слышал.
Стучащие вагоны скоро слились в одно гремящее темное мелькание.
Пашка стоял, понурясь. Он понял, что не увидит брата больше никогда…
В степи, на шоссе, над которым стоял морозный низкий пар, разъезд белых наткнулся на трех оборванцев.
Впереди шел молодой человек в рваной чухонской шапке, в пожухшем извалявшемся полушубке с чужого плеча. Он вел за руку мальчика. За ними плелась девочка в темном платке, с жестяным чайником на веревочке.
Молодой человек сказал, что его зовут Маркушиным Павлом, что он ученик пятого класса бывшей Ларинской гимназии в Петербурге, стал уверять, что пробирается в армию к белым. Одному из всадников он подал гимназический билет, потертый, в оборванном черном коленкоре, а девочка сказала, что ее зовут Катей. Побродяжка сначала назвал ее сестрой, потом поправился, что она воспитанница его матери. Он сказал, что муж его сестры, убитый у Зимнего дворца, был поручиком Новочеркасского пехотного полка, а он ведет к белым его сына, Костю.
Люди и лошади дымились от холодного пара. Шинели были в инее. Озябшие всадники слушали равнодушно и пасмурно, но юноша так смотрел светло-карими глазами, так горячо рассказывал о себе и так совал всем гимназический билет, что старший разъезда сказал с легкой улыбкой:
– Да мы верим вам… В штаб.
Трое пошли между коней. Кони чихали от сырости. Скребли копыта по гололедице. В тумане, на шоссе, сначала были видны плечи и головы всадников, потом все расплылось тенями.
Один из кавалеристов прыгнул с коня, пошел рядом с оборванцем. Это был длинноносый молодой солдат с худой шеей, обмотанной серым шерстяным шарфом. Пашка с восхищением смотрел на своего конвоира, на его карабин с потертым прикладом, на крепкие сапоги желтоватой кожи с позвякивающими шпорами и как он идет, глубоко засунувши руку с поводом в карман английской шинели, – на все он смотрел с восхищением, еще не веря вполне, что это белые, настоящие, живые.
По погонам, по ладным шинелям, по фуражкам, по самым лицам он понимал, что это белые, в чем-то или во всем иные люди, чем большевики, что это свои.
Кавалерист с озябшим лицом посматривал на него, хотел заговорить. Подросток в солдатской шинели был, как и Пашка, гимназистом, только не петербургским, а харьковским. По глазам, по лицу он сразу понял, что оборванец говорит правду, что он свой, и прыгнул с коня, чтобы поговорить с ним и заодно размять ноги. Он вытянул из-под шинели смятую папиросу, протянул Пашке:
– Хотите курить?
– Благодарю вас, не курю, – ответил тот, с восхищением глядя на конвоира.
– Трудно было к нам пробираться? – спросил кавалерист, чувствуя не без удовольствия, что Пашка им любуется.
– Очень. Очень трудно. Я даже думал, не доберусь. Вы уходили все дальше.
– Да, отступаем. Говорят, на Киев пойдем. Длинноносый покосился на Катю и, придерживая повод то одной, то другой рукой, стал рыться в карманах шинели, и в гимнастерке, и под шинелью, где-то сзади. Наконец, он извлек кусок сахара, явный огрызок, желтоватый, в приставших шерстинках и соре:
– Можно вам? – сказал он Кате и покраснел. – И мальчику тоже.
Катя не ждала, смутилась, сжала подарок в нечистой узкой руке и, с неожиданным изяществом, похорошевшая, повернула голову к кавалеристу:
– Спасибо…
Пашка с детьми шел между коней, а хотелось ему дышать сильно, всей грудью, такое он чувствовал облегчение. Ему казалось, что он вышел в иной мир, где небо и люди, и снег – все иное, чем у большевиков, он снова в мире живом и чудесном, куда так стремился.
Он точно вышел из боя. Так и было, что он, изорванный и обгоревший, вышел из страшного боя. Мир рушился кругом него, ему суждено было видеть одну гибель, предательства, смерть, но он шел, как непобедимый герой, в грозе всех разрушений, среди всех смертей, и вот прибило его к кучке всадников в туманной степи. Тощий оборванец с сияющими светло-карими глазами шел между коней, живой человек со всей его спасенной жизнью в себе, еще неведомый миру победитель, новый герой. Пашка услышал, как далеко в степи очень низко и глухо ворочается что-то тяжелое.
– Пушки, не правда ли? – сказал он с восторженной тревогой.
– Пушки, – ответил равнодушно конвоир. – Большевики…
Пашка смотрел на него и точно впервые узнавал в смутном свете вокзального фонаря. С жаркими глазами, в шинели с чужого плеча, с этой нелепой бородой клочьями Николай был настоящим, почему-то жалким и беспомощным, но настоящим старшим братом, какого он не знал никогда раньше.
– Я тебе только хочу сказать, Паша… Это, конечно, верно, что я банный генерал.
– Ну, Коля, опять.
– Нет, верно. Слабый я человек. Не вышел я как человек. Николай посмотрел на свои тощие руки, с робостью улыбнулся:
– А одно неверно. Неверно, что я Аглаю не любил. Я ее любил и люблю. Пашка побледнел.
– Я ей в Питер писал, в деревню, – грустно говорил Николай. – Она не отвечает. Почему же не отвечает, почему? Хотя бы два слова…
Пашка стиснул зубы до того, что на скулах задвигалась кожа, поднял голову с трудом:
– Коля, знаешь что, прошу тебя, не пиши ты Аглае.
– А что?
– Так, не пиши.
– Но почему?
– Видишь ли, она уехала из деревни, – Пашка заторопился. – Понимаешь, уехала, что же даром писать, не надо, она в Крым уехала или куда-то на юг. Понимаешь…
– Я же не знал… Теперь я понимаю. Это очень хорошо, что она в Крым уехала. Ане-то как хорошо будет. Теплынь. Как поправлюсь, обязательно поеду искать, какие бы там ни были фронты.
– Коля, я не знаю в точности, может быть, она не в Крыму, Коля.
Но Николай уже был уверен, что, без сомнения, найдет Аглаю в Крыму, ему даже казалось, что он найдет их почему-то в Симеизе.
– Пашка, а помнишь ли, как она в деревню уезжала, ведь я тоже на вокзале был. Только отвернулся от тебя, стыдно стало, что заметишь. Прости меня, братишка бедный, за все, что случилось.
– Ты ни перед кем и ни перед чем не виноват, Коля, ты чудный мой брат, самый хороший, какой есть на свете. Я тебя люблю.
– Постой, полно. Что я еще хотел спросить… Ей-Богу, голова кругом.
– Смотри, поезд пропустишь.
– А ты? Неужели, правда, к белым?
– Да.
– Молодец, Пашка. А я, брат, запутался. Потерянный я человек, конченый. Говорят, белых отбили, но они еще где-то тут, близко… Ах, ей-Богу, идти пора. И по ногам дует до черта… Если Аглаю увидишь у белых, скажи, прощения прошу. Так и скажи: Николай прощения просит за все, так и скажи.
– Хорошо. Я скажу. Хорошо.
Он повел брата под руку к эшелону. «Потерянный человек», – вспомнил он с жалостью его слова.
Темные теплушки скрипели, подавались, когда они подошли. Николай успел забраться на площадку, толкаясь о стенки.
– А Катя, как Катя? – стал он кричать в туман, с площадки, но Пашка уже не слышал.
Стучащие вагоны скоро слились в одно гремящее темное мелькание.
Пашка стоял, понурясь. Он понял, что не увидит брата больше никогда…
В степи, на шоссе, над которым стоял морозный низкий пар, разъезд белых наткнулся на трех оборванцев.
Впереди шел молодой человек в рваной чухонской шапке, в пожухшем извалявшемся полушубке с чужого плеча. Он вел за руку мальчика. За ними плелась девочка в темном платке, с жестяным чайником на веревочке.
Молодой человек сказал, что его зовут Маркушиным Павлом, что он ученик пятого класса бывшей Ларинской гимназии в Петербурге, стал уверять, что пробирается в армию к белым. Одному из всадников он подал гимназический билет, потертый, в оборванном черном коленкоре, а девочка сказала, что ее зовут Катей. Побродяжка сначала назвал ее сестрой, потом поправился, что она воспитанница его матери. Он сказал, что муж его сестры, убитый у Зимнего дворца, был поручиком Новочеркасского пехотного полка, а он ведет к белым его сына, Костю.
Люди и лошади дымились от холодного пара. Шинели были в инее. Озябшие всадники слушали равнодушно и пасмурно, но юноша так смотрел светло-карими глазами, так горячо рассказывал о себе и так совал всем гимназический билет, что старший разъезда сказал с легкой улыбкой:
– Да мы верим вам… В штаб.
Трое пошли между коней. Кони чихали от сырости. Скребли копыта по гололедице. В тумане, на шоссе, сначала были видны плечи и головы всадников, потом все расплылось тенями.
Один из кавалеристов прыгнул с коня, пошел рядом с оборванцем. Это был длинноносый молодой солдат с худой шеей, обмотанной серым шерстяным шарфом. Пашка с восхищением смотрел на своего конвоира, на его карабин с потертым прикладом, на крепкие сапоги желтоватой кожи с позвякивающими шпорами и как он идет, глубоко засунувши руку с поводом в карман английской шинели, – на все он смотрел с восхищением, еще не веря вполне, что это белые, настоящие, живые.
По погонам, по ладным шинелям, по фуражкам, по самым лицам он понимал, что это белые, в чем-то или во всем иные люди, чем большевики, что это свои.
Кавалерист с озябшим лицом посматривал на него, хотел заговорить. Подросток в солдатской шинели был, как и Пашка, гимназистом, только не петербургским, а харьковским. По глазам, по лицу он сразу понял, что оборванец говорит правду, что он свой, и прыгнул с коня, чтобы поговорить с ним и заодно размять ноги. Он вытянул из-под шинели смятую папиросу, протянул Пашке:
– Хотите курить?
– Благодарю вас, не курю, – ответил тот, с восхищением глядя на конвоира.
– Трудно было к нам пробираться? – спросил кавалерист, чувствуя не без удовольствия, что Пашка им любуется.
– Очень. Очень трудно. Я даже думал, не доберусь. Вы уходили все дальше.
– Да, отступаем. Говорят, на Киев пойдем. Длинноносый покосился на Катю и, придерживая повод то одной, то другой рукой, стал рыться в карманах шинели, и в гимнастерке, и под шинелью, где-то сзади. Наконец, он извлек кусок сахара, явный огрызок, желтоватый, в приставших шерстинках и соре:
– Можно вам? – сказал он Кате и покраснел. – И мальчику тоже.
Катя не ждала, смутилась, сжала подарок в нечистой узкой руке и, с неожиданным изяществом, похорошевшая, повернула голову к кавалеристу:
– Спасибо…
Пашка с детьми шел между коней, а хотелось ему дышать сильно, всей грудью, такое он чувствовал облегчение. Ему казалось, что он вышел в иной мир, где небо и люди, и снег – все иное, чем у большевиков, он снова в мире живом и чудесном, куда так стремился.
Он точно вышел из боя. Так и было, что он, изорванный и обгоревший, вышел из страшного боя. Мир рушился кругом него, ему суждено было видеть одну гибель, предательства, смерть, но он шел, как непобедимый герой, в грозе всех разрушений, среди всех смертей, и вот прибило его к кучке всадников в туманной степи. Тощий оборванец с сияющими светло-карими глазами шел между коней, живой человек со всей его спасенной жизнью в себе, еще неведомый миру победитель, новый герой. Пашка услышал, как далеко в степи очень низко и глухо ворочается что-то тяжелое.
– Пушки, не правда ли? – сказал он с восторженной тревогой.
– Пушки, – ответил равнодушно конвоир. – Большевики…
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67