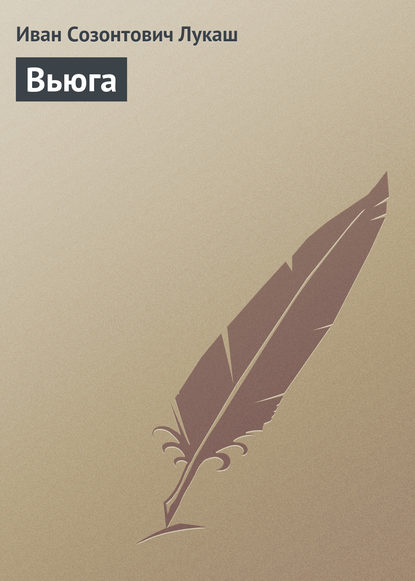По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Люди сидели, лежали на мешках, на сундуках, уходили, возвращались, иногда всех выгоняла милиция, на вокзале были обходы, снова лежали вповалку.
Когда обход проходил и было тепло и что поесть, у Пашки наступало мгновение необычайного покоя. Такое же оцепенение охватывало всех бездомных людей, полегших на вокзале, куда-то гонимых, изнемогших, похожих на толпы обовшивевших арестантов.
Пашка стал с детьми, как все – немытый, изорванный, подтеки грязи на худом лице, с горящими глазами. Поезда на Курск не было, и, кажется, уже неделя, как он жил на вокзале.
Москва, куда он добрался, непонятная, путаная, нагроможденная, с мужиками в желтоватых тулупах на дровнях, с огромными красными звездами на старых домах, с обмерзшими красными полотнищами через всю улицу, нравилась Пашке.
Ему нравились и чуждые московские прозвища: Столешники, Ордынка, Остоженка, – точно названия из исторического романа, вроде «Князя Серебряного».
Одна Москва казалась ему тишайшей, почти бесплотной, с игранием в воздухе золотых куполов, с нетронутым снегом в проулках, и люди такой Москвы, источенные страхом и голодом, с прозрачными глазами, тоже были почти бесплотными, как она сама.
Соборы, имен которых он не знал, и как переливаются в воздухе золоченые цепи крестов, затаенная тишина Кремля, зеленоватого и седого от стужи, – во всем было тишайшее обетование святыни, иного и прекрасного бытия. Такая Москва умолкла, ее обет прекрасного просветления всего сущего не сбылся и как будто уже никому не был понятен.
С шумом, с завыванием все того же «Интернационала» или «Похоронного марша» часто проходили по улицам черные шествия. Это была теперешняя, советская Москва, очередная согнанная демонстрация или похороны какого-нибудь вождя, которого несли откормленные люди без шапок, в хороших пальто, с нерусскими и нарочито постными лицами, у многих выбритыми, как у актеров. Пашка ненавидел такую Москву. Что-то упорное и тупое наполняло теперь многие лица. По этой проступающей тугой тьме и по жесточи в опустевших глазах Пашка чуял большевиков.
Он часто думал, что от большевиков ему мешают уйти дети. Если бы не эта обуза, он давно был бы у белых, на Юге. Дети чувствовали, что тяготят его. Катя уже не вставала, встрепенувшись, а покорно ждала, когда он уйдет, сидя на своем мешке, как желтолицая татарская пленница.
Но едва он скрывался, Катя застегивала на Косте оборванное пальтишко и вела его за руку между мешков и рухляди из зловонной теплоты вокзала, на улицу.
Надо было видеть дядю Пашу хотя бы издали. Они хоронились от него, но бродили за ним, иззябшие, часами, до сумерек. Катя подымала Костю на руки, слышно дышала от усталости. Иногда кто-нибудь подавал ей милостыню. Нетрезвый красноармеец в суконном шлеме как-то высыпал ей горсть сырых поломанных папирос: «На, может продашь».
Катя точно чуяла, когда Пашке возвращаться, и всегда раньше его была на вокзале.
На Красной площади, у спуска на Москву-реку, они все же попались ему раз на глаза: некуда было деваться.
– Чего вы шляетесь за мною? – обиженно стал упрекать Пашка. – Я ничего не могу для вас сделать. Понимаете или нет? Отстаньте вы от меня. Подите прочь, паршивцы эдакие, сукины дети. Как вы мне надоели. Идите, куда хотите, вам говорят…
Катя постояла, потупившись, потом послушно повернулась и, ведя за руку Костю, пошла обратно к спуску.
Пашка посмотрел, куда они идут, позвал с раздражением:
– Ну куда ты пошла, куда, тебе говорят, дура эдакая, иди сюда.
Он мог и не звать. Катя все равно проследила бы за ним, и вечером, втроем, они спали бы снова на каменном полу, на вокзале.
Поезда на Курск не было: Орел и Курск будто бы заняли белые.
Пашка знал, что Николай где-то в Москве, но разыскивать брата не хотел, а адрес потерял. Деньги, взятые из Петербурга, и золотой крестик были проедены. В сумерках, когда вокзал притихал, Пашка рассматривал оставшиеся богатства: он развертывал под полушубком заветный сверток, кусок отцовской замши. Там еще таились в папиросной бумаге два обручальных кольца и материнская серебряная сережка с обломанным ушком и граненым синим камешком. Там, в своем гимназическом билете, он нашел однажды московский адрес Ванятки и платок, сложенный вчетверо.
Он никак не думал, что у него хранится пожелтевший батистовый платок с меткой, вышитой гладью: «Л.С». Кусок желтоватого батиста, в дырочках, в красных каплях ржавчины, показался ему существом исчезнувшего, сгоревшего мира. Он посмотрел сквозь платок на свет, на мгновение все стало нежным и смутным, потом сложил бережно на тощем колене и спрятал снова на грудь.
– Ты знаешь, как странно, – прошептал он Кате. – У меня сохранился платок Любы Сафоновой. Ты помнишь Любу?
– Помню. Они под нами жили…
Как-то к вечеру они плелись втроем к Курскому вокзалу.
В Москве ходила глухая метель. Люди мелькали в снегу, бывшие люди бывшего мира, глухонемые видения.
Люди жили теперь, как в холодном сне, простаивали на стуже в очередях, кололи лед на улице, воровали доски заборов, людей гоняли на допросы, на принудительные работы, на расстрелы. Вся жизнь стала, как терзающий студеный сон.
У вокзала на электрические фонари снег гнало темными стадами. Фонари шипели. Под фонарями топтались от холода озябшие проститутки.
А на площади, над побелевшей толпой, рычали грузовики. На грузовиках ныли гармонии, сипло пели. Толпа стояла безмолвная. Пашка протискался ближе.
В мелькающем снегу, над собой, он увидел размалеванные чудовищные маски с наклеенными рыжими бородами, в лохматых париках, в коронах из золотой бумаги.
На грузовиках, в бурых хламидах, засыпанные снегом, стояли продрогшие апостолы. Там в наморщенном лысом парике с проволочным нимбом вокруг головы был Николай Чудотворец или апостол Павел.
Папа Римский в островерхом красном колпаке, в холщовом плаще с намалеванными синими крестами размахивал посохом с загнутым крюком. Плащ рвало ветром, были видны под ним дрожащие ноги комедианта. Раввины в огромных лисьих шапках и полосатых халатах жались друг к другу. Дрожали от стужи священники в парчовых ризах.
Выше Папы Римского, апостолов, Николая Чудотворца, выше всех, стояла на грузовике Дева Мария в кумачовой мантии, с бумажной лилией в руке и в фольговом венце. Ее фальшивые белокурые волосы, дымящиеся от вьюги, были распущены по плечам, лицо актерки, раскрашенное румянами, дрожало от стужи.
Грузовик зарычал, тронулся. Это было шествие безбожников – с гармониями, сиплым воем, пением, хохотом, от которого не было смешно никому. Катя потеребила Пашку за рукав.
– Чего тебе?
– Там, наверху, кажется, тетя Оля…
Грузовик качался в метели. Апостолы попадали друг на друга, раввины и священники обнялись, трясясь от толчков. Пресвятая Дева в фольговом венце выронила лилию. Она смотрела сквозь косой снег вниз, на тощего подростка в рваном полушубке. Он бежал у грузовика, потом отстал.
Пашка вернулся к Кате, дышал порывисто.
– Ты ошиблась, это не Ольга, – сказал он и вспомнил, как в Питере, когда был у сестры на Фонтанке, она перевесила сверху через перила голову, упали вниз белокурые пряди, и она позвала: «Скажи маме, я приду, слышишь, непременно приду».
Ему стало нестерпимо жаль озябшую, падшую актерку, нестерпимая обида за Ольгу охватила его. Он стиснул зубы от обиды, от злобы и вспомнил Ванятку.
К Ванятке, ко всем большевикам он чувствовал ярую брезгливость, как к убийцам. Но ему так захотелось сказать Ванятке «все», что он начал рыться за пазухой, отыскивая записку с адресом.
В коридоре казенного дома, куда он вскоре пришел, высоко под потолком горели пыльные лампочки, хлопали двери, сновали какие-то люди, было мутно и дымно, Пашка нашел скамью в углу, у парового отопления, сказал детям:
– Ждите тут.
Ванятка Кононов, черноволосый, в расстегнутой кожаной куртке, в белой косоворотке, один сидел в комнате номер тридцать пять. Перед ним были разложены на столе бумаги, портфель, карандаши. Голова Ванятки, стриженая и жесткая, как у отца, отблескивала под электрической лампочкой.
– Что надо, товарищ?
Он сначала не узнал Пашку, узнал внезапно и привстал, вглядываясь.
Оборванный, грязный, подкорченный от стужи, Пашка испугал его.
– Как тебя подвело, – сказал Ванятка тихо, не замечая, как переходит на «ты». – Откуда такой взялся, точно покойник?
– С вокзала. Там сплю, там живу, жду поезда на Курск.
– А тебе чего в Курске делать? Ты к белым пробираешься, что ли?
Пашка стиснул зубы, на скулах подвигалась тонкая кожа, и вдруг залило светом карие, потускшие глаза:
Когда обход проходил и было тепло и что поесть, у Пашки наступало мгновение необычайного покоя. Такое же оцепенение охватывало всех бездомных людей, полегших на вокзале, куда-то гонимых, изнемогших, похожих на толпы обовшивевших арестантов.
Пашка стал с детьми, как все – немытый, изорванный, подтеки грязи на худом лице, с горящими глазами. Поезда на Курск не было, и, кажется, уже неделя, как он жил на вокзале.
Москва, куда он добрался, непонятная, путаная, нагроможденная, с мужиками в желтоватых тулупах на дровнях, с огромными красными звездами на старых домах, с обмерзшими красными полотнищами через всю улицу, нравилась Пашке.
Ему нравились и чуждые московские прозвища: Столешники, Ордынка, Остоженка, – точно названия из исторического романа, вроде «Князя Серебряного».
Одна Москва казалась ему тишайшей, почти бесплотной, с игранием в воздухе золотых куполов, с нетронутым снегом в проулках, и люди такой Москвы, источенные страхом и голодом, с прозрачными глазами, тоже были почти бесплотными, как она сама.
Соборы, имен которых он не знал, и как переливаются в воздухе золоченые цепи крестов, затаенная тишина Кремля, зеленоватого и седого от стужи, – во всем было тишайшее обетование святыни, иного и прекрасного бытия. Такая Москва умолкла, ее обет прекрасного просветления всего сущего не сбылся и как будто уже никому не был понятен.
С шумом, с завыванием все того же «Интернационала» или «Похоронного марша» часто проходили по улицам черные шествия. Это была теперешняя, советская Москва, очередная согнанная демонстрация или похороны какого-нибудь вождя, которого несли откормленные люди без шапок, в хороших пальто, с нерусскими и нарочито постными лицами, у многих выбритыми, как у актеров. Пашка ненавидел такую Москву. Что-то упорное и тупое наполняло теперь многие лица. По этой проступающей тугой тьме и по жесточи в опустевших глазах Пашка чуял большевиков.
Он часто думал, что от большевиков ему мешают уйти дети. Если бы не эта обуза, он давно был бы у белых, на Юге. Дети чувствовали, что тяготят его. Катя уже не вставала, встрепенувшись, а покорно ждала, когда он уйдет, сидя на своем мешке, как желтолицая татарская пленница.
Но едва он скрывался, Катя застегивала на Косте оборванное пальтишко и вела его за руку между мешков и рухляди из зловонной теплоты вокзала, на улицу.
Надо было видеть дядю Пашу хотя бы издали. Они хоронились от него, но бродили за ним, иззябшие, часами, до сумерек. Катя подымала Костю на руки, слышно дышала от усталости. Иногда кто-нибудь подавал ей милостыню. Нетрезвый красноармеец в суконном шлеме как-то высыпал ей горсть сырых поломанных папирос: «На, может продашь».
Катя точно чуяла, когда Пашке возвращаться, и всегда раньше его была на вокзале.
На Красной площади, у спуска на Москву-реку, они все же попались ему раз на глаза: некуда было деваться.
– Чего вы шляетесь за мною? – обиженно стал упрекать Пашка. – Я ничего не могу для вас сделать. Понимаете или нет? Отстаньте вы от меня. Подите прочь, паршивцы эдакие, сукины дети. Как вы мне надоели. Идите, куда хотите, вам говорят…
Катя постояла, потупившись, потом послушно повернулась и, ведя за руку Костю, пошла обратно к спуску.
Пашка посмотрел, куда они идут, позвал с раздражением:
– Ну куда ты пошла, куда, тебе говорят, дура эдакая, иди сюда.
Он мог и не звать. Катя все равно проследила бы за ним, и вечером, втроем, они спали бы снова на каменном полу, на вокзале.
Поезда на Курск не было: Орел и Курск будто бы заняли белые.
Пашка знал, что Николай где-то в Москве, но разыскивать брата не хотел, а адрес потерял. Деньги, взятые из Петербурга, и золотой крестик были проедены. В сумерках, когда вокзал притихал, Пашка рассматривал оставшиеся богатства: он развертывал под полушубком заветный сверток, кусок отцовской замши. Там еще таились в папиросной бумаге два обручальных кольца и материнская серебряная сережка с обломанным ушком и граненым синим камешком. Там, в своем гимназическом билете, он нашел однажды московский адрес Ванятки и платок, сложенный вчетверо.
Он никак не думал, что у него хранится пожелтевший батистовый платок с меткой, вышитой гладью: «Л.С». Кусок желтоватого батиста, в дырочках, в красных каплях ржавчины, показался ему существом исчезнувшего, сгоревшего мира. Он посмотрел сквозь платок на свет, на мгновение все стало нежным и смутным, потом сложил бережно на тощем колене и спрятал снова на грудь.
– Ты знаешь, как странно, – прошептал он Кате. – У меня сохранился платок Любы Сафоновой. Ты помнишь Любу?
– Помню. Они под нами жили…
Как-то к вечеру они плелись втроем к Курскому вокзалу.
В Москве ходила глухая метель. Люди мелькали в снегу, бывшие люди бывшего мира, глухонемые видения.
Люди жили теперь, как в холодном сне, простаивали на стуже в очередях, кололи лед на улице, воровали доски заборов, людей гоняли на допросы, на принудительные работы, на расстрелы. Вся жизнь стала, как терзающий студеный сон.
У вокзала на электрические фонари снег гнало темными стадами. Фонари шипели. Под фонарями топтались от холода озябшие проститутки.
А на площади, над побелевшей толпой, рычали грузовики. На грузовиках ныли гармонии, сипло пели. Толпа стояла безмолвная. Пашка протискался ближе.
В мелькающем снегу, над собой, он увидел размалеванные чудовищные маски с наклеенными рыжими бородами, в лохматых париках, в коронах из золотой бумаги.
На грузовиках, в бурых хламидах, засыпанные снегом, стояли продрогшие апостолы. Там в наморщенном лысом парике с проволочным нимбом вокруг головы был Николай Чудотворец или апостол Павел.
Папа Римский в островерхом красном колпаке, в холщовом плаще с намалеванными синими крестами размахивал посохом с загнутым крюком. Плащ рвало ветром, были видны под ним дрожащие ноги комедианта. Раввины в огромных лисьих шапках и полосатых халатах жались друг к другу. Дрожали от стужи священники в парчовых ризах.
Выше Папы Римского, апостолов, Николая Чудотворца, выше всех, стояла на грузовике Дева Мария в кумачовой мантии, с бумажной лилией в руке и в фольговом венце. Ее фальшивые белокурые волосы, дымящиеся от вьюги, были распущены по плечам, лицо актерки, раскрашенное румянами, дрожало от стужи.
Грузовик зарычал, тронулся. Это было шествие безбожников – с гармониями, сиплым воем, пением, хохотом, от которого не было смешно никому. Катя потеребила Пашку за рукав.
– Чего тебе?
– Там, наверху, кажется, тетя Оля…
Грузовик качался в метели. Апостолы попадали друг на друга, раввины и священники обнялись, трясясь от толчков. Пресвятая Дева в фольговом венце выронила лилию. Она смотрела сквозь косой снег вниз, на тощего подростка в рваном полушубке. Он бежал у грузовика, потом отстал.
Пашка вернулся к Кате, дышал порывисто.
– Ты ошиблась, это не Ольга, – сказал он и вспомнил, как в Питере, когда был у сестры на Фонтанке, она перевесила сверху через перила голову, упали вниз белокурые пряди, и она позвала: «Скажи маме, я приду, слышишь, непременно приду».
Ему стало нестерпимо жаль озябшую, падшую актерку, нестерпимая обида за Ольгу охватила его. Он стиснул зубы от обиды, от злобы и вспомнил Ванятку.
К Ванятке, ко всем большевикам он чувствовал ярую брезгливость, как к убийцам. Но ему так захотелось сказать Ванятке «все», что он начал рыться за пазухой, отыскивая записку с адресом.
В коридоре казенного дома, куда он вскоре пришел, высоко под потолком горели пыльные лампочки, хлопали двери, сновали какие-то люди, было мутно и дымно, Пашка нашел скамью в углу, у парового отопления, сказал детям:
– Ждите тут.
Ванятка Кононов, черноволосый, в расстегнутой кожаной куртке, в белой косоворотке, один сидел в комнате номер тридцать пять. Перед ним были разложены на столе бумаги, портфель, карандаши. Голова Ванятки, стриженая и жесткая, как у отца, отблескивала под электрической лампочкой.
– Что надо, товарищ?
Он сначала не узнал Пашку, узнал внезапно и привстал, вглядываясь.
Оборванный, грязный, подкорченный от стужи, Пашка испугал его.
– Как тебя подвело, – сказал Ванятка тихо, не замечая, как переходит на «ты». – Откуда такой взялся, точно покойник?
– С вокзала. Там сплю, там живу, жду поезда на Курск.
– А тебе чего в Курске делать? Ты к белым пробираешься, что ли?
Пашка стиснул зубы, на скулах подвигалась тонкая кожа, и вдруг залило светом карие, потускшие глаза:
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67