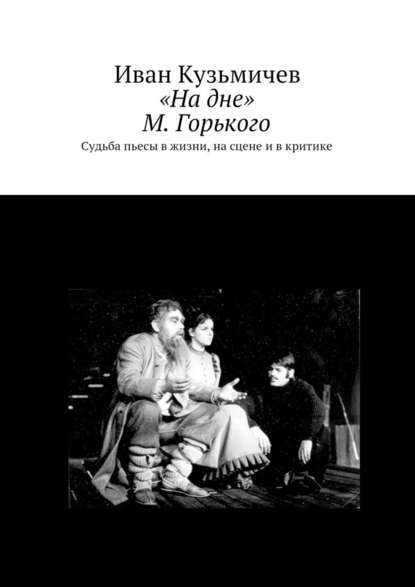По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«На дне» М. Горького. Судьба пьесы в жизни, на сцене и в критике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так, во Владивостокском драмтеатре пьеса «На дне» была сыграна как поединок правды и лжи. Режиссер спектакля В. Голиков весь ход действия и само оформление подчинил известному высказыванию А. М. Горького об идейном содержании пьесы: «…Основной вопрос, который я хотел поставить, это – что лучше: истина или сострадание? Что нужнее?» Эти слова звучали из-за занавеса перед началом спектакля своего рода эпиграфом ко всей постановке. Сопровождались они небольшой, но многозначительной паузой и завершались истошным человеческим криком. На сцене вместо нар – обтянутые суровым полотном кубы разной величины. От середины сцены вверх чуть ли не до самых колосников устремлялась лестница. Она служила как бы знаком, символом глубины того «дна», где оказались герои. Бытовые аксессуары сведены к минимуму. Признаки ночлежной нищеты даны условно: дырявые перчатки у Барона, грязное кашне на шее Актёра, в остальном в костюмах – чистота. В спектакле все – будь то события, герои, декорация – рассматривается как аргумент в споре.
Лука в исполнении Н. Крылова – не лицемер и не эгоист. В нем нет ничего такого, что «заземляло» бы этот образ. По словам Ф. Черновой, рецензировавшей этот спектакль, Лука Н. Крылова – благостный, с белоснежной сединой и в чистой рубашечке старичок. Он искренне хотел бы помочь людям, но, умудренный жизнью, знает, что это невозможно, и отвлекает их усыпляющей мечтой от всего тягостного, горестного, грязного. «Ложь такого Луки, не отягощенная никакими личными пороками её носителя, предстает как бы в чистом виде, в самом „благостном“ варианте. Оттого вывод о гибельности лжи, вытекающий из спектакля, – заключает рецензент, – приобретает значение истины непреоборимой»[40 - Чернова Ф. Поединок правды и лжи. – Театральная жизнь, 1966, №5, с. 16.].
Однако интересно задуманный спектакль таил в себе большую опасность. Дело в том, что постановщики и артисты не столько искали истину, сколько демонстрировали тезис о пагубности утешительства и лжи. Герои «дна» в этом спектакле были заранее обречены. Они оторваны, изолированы от мира. Гигантская лестница хотя и поднималась высоко, но никого из обитателей «дна» никуда не выводила. Она лишь подчеркивала глубину костылёвских трущоб и тщетность попыток Сатина, Пепла и других выбраться из подвала. Возникло явное и, по существу, неразрешимое противоречие между свободой мысли и заданной обреченностью и беспомощностью человека, оказавшегося на дне жизни. Кстати, лестницу мы видели и на сцене ленинградского театра, но там она усиливала оптимистическое звучание пьесы. Вообще же этот атрибут использовал еще Рихард Валентин при оформлении знаменитого рейнгардтовского спектакля «На дне».
Заданная идея лежала и в основе постановки Л. Щеглова в Смоленском драмтеатре. Л. Щеглову мир горьковских оборванцев представился как мир отчуждения. Здесь каждый живет сам по себе, в одиночку. Люди разобщены. Апостолом отчуждения выступает Лука, ибо он искренне убежден, что каждый должен бороться лишь за самого себя. Лука (С. Чередников) – по свидетельству автора рецензии О. Корневой – огромного роста, здоровенный старик, с красным, обветренным и опаленным солнцем лицом. Входит он в ночлежку не бочком, не тихо и незаметно, а шумно, громко, широким шагом. Он не утешитель, а …усмиритель, укротитель человеческой мятежности, всякого порыва, беспокойства. Он настойчиво, даже настырно говорит Анне о покое, который якобы ждет её после смерти, а когда Анна по-своему истолковывает слова старика и высказывает желание помучиться здесь, на земле, Лука, пишет рецензент, «просто-таки приказывает ей умереть»[41 - Театральная жизнь, 1967, №10, с. 24.].
Сатин, наоборот, стремится объединить этих жалких людей. «Постепенно на наших глазах, – читаем в рецензии, – в разъединенных, заброшенных сюда волей обстоятельств человеческих существах начинает просыпаться чувство товарищества, желание понять друг друга, сознание необходимости жить вместе».
Идея преодоления отчуждения, интересная сама по себе, не нашла в спектакле достаточно обоснованного выражения. На протяжении всего действия она так и не сумела заглушить впечатление от холодного, бесстрастного стука метронома, звучавшего в темноте зрительного зала и отсчитывавшего секунды, минуты и часы человеческой жизни, существующей в одиночку. Не способствовали проявлению замысла и некоторые условные приемы оформления спектакля, рассчитанные скорее на эффект восприятия, нежели на развитие основной идеи спектакля. Исполнители ролей – непривычно молоды. Их современные костюмы совершенно не похожи на живописные отрепья горьковских босяков, а джинсы на Сатине и стильные брюки на Бароне озадачили даже самых свободных от предрассудков рецензентов и зрителей, тем более что некоторые из персонажей (Бубнов, Клещ) явились в обличье мастеровых того времени, а Василиса предстала в нарядах кустодиевской купчихи.
Архангельский театр имени М. В. Ломоносова (режиссер В. Терентьев) за основу своей постановки взял излюбленную горьковскую мысль о внимательном отношении к каждой индивидуальной особи человеческой. Людей «дна» в интерпретации архангельских артистов мало заботит их внешнее положение бродяг и «никудышников»». Главная их черта – неистребимое стремление к свободе. По словам Е. Балатовой, рецензировавшей этот спектакль, «не теснота, не толчея делают нестерпимой жизнь в этой ночлежке. Что-то изнутри распирает каждого, рвется наружу в корявых, оборванных, неумелых словах»[42 - Театральная жизнь, 1966, №14, с. 11.]. Мечется Клещ (Н. Тендитный), грузно раскачивается Настя (О. Уколова), мается Пепел (Е. Павловский), вот-вот готовый бежать в Сибирь… Лука и Сатин – не антиподы, их объединяет острое и неподдельное любопытство к людям. Впрочем, не были они врагами и в спектаклях других театров. Лука (Б. Горшенин) приглядывается к ночлежникам, замечает Е. Балатова в своей рецензии, снисходительно, охотно, а порой лукаво «подкармливая» их своим житейским опытом. Сатин (С. Плотников) легко переходит от досадливого раздражения к попыткам пробудить что-то человечное в заскорузлых душах своих товарищей. Внимательное отношение к живым человеческим судьбам, а не отвлеченным идеям, заключает рецензент, придало спектаклю «особую свежесть», и от этого «горячего потока человечности рождается взвихренный, стремительный, глубоко эмоциональный ритм всего спектакля».
В некотором отношении любопытен был и спектакль Кировского драмтеатра.. О нем появилась весьма похвальная статья в журнале «Театр»[43 - См.: Романович И. Обыкновенное несчастье. «На дне». М. Горький. Постановка В. Ланского. Драматический театр имени С. М. Кирова. Киров, 1968. – Театр, 1968, №9, с. 33—38.]. Спектакль был показан на Всесоюзном горьковском театральном фестивале весной 1968 года в Нижнем Новгороде (тогда городе Горьком) и получил более сдержанную и объективную оценку[44 - См.: 1968 год – год Горького. – Театр, 1968, №9, с. 14.]. При наличии несомненных находок бросался в глаза чересчур надуманный, выворачивающий наизнанку содержание пьесы режиссёрский замысел. Если основная идея пьесы может быть выражена словами «так жить нельзя», то режиссеру хотелось сказать нечто прямо противоположное: жить можно и так, ибо нет предела приспособляемости человека к несчастью. Каждый из действующих лиц на свой образец подтверждал этот исходный тезис. Барон (А. Старочкин) демонстрировал свои сутенерские качества, выказывал свою власть над Настей; Наташа (Т. Клинова) – подозрительность, недоверчивость; Бубнов (Р. Аюпов) – постылую и циничную нелюбовь к себе и другим людям, а все вместе – разобщенность, равнодушие и к своим и к чужим бедам.
В этот душный, мрачный мир врывается Лука И. Томкевича, одержимый, злой, активный. Если верить И. Романовичу, он «приносит с собой могучее дыхание России, её пробуждающегося народа». Зато Сатин совершенно поблек и превратился в самую малодейственную фигуру спектакля. Такая неожиданная интерпретация, делающая из Луки чуть ли не Буревестника, а из Сатина – всего лишь заурядного шулера, никак не оправдывается самим содержанием пьесы. Не получила поддержки в критике и попытка постановщика дополнить Горького, «расширить» тексты авторских ремарок (избиение старухой девушки-гимназистки, драки, погоня за жуликами и т. д.)[45 - Алексеева А. Н. Современные проблемы сценической интерпретации драматургии А. М. Горького. – В кн.: Горьковские чтения. 1976. Материалы конференции «А. М. Горький и театр». Горький, 1977, с. 24.].
Наиболее примечательными в эти годы были две постановки – на родине художника, в Нижнем Новгороде, и в Москве, в театре «Современник».
Спектакль «На дне» в Горьковском академическом театре драмы имени А. М. Горького, отмеченный Государственной премией СССР и признанный одним из лучших на театральном фестивале в 1968 году, был и в самом деле во многом интересен и поучителен. В свое время он вызвал полемику в театральных кругах и на страницах печати. Одни театральные критики и рецензенты в стремлении театра прочесть пьесу по-новому видели достоинство, другие, напротив, недостаток. И. Вишневская приветствовала дерзания нижегородцев, а Н. Барсуков выступал против осовременивания пьесы.
При оценке этой постановки (режиссер Б. Воронов, художник В. Герасименко) И. Вишневская исходила из общей гуманистической идеи. Сегодня, когда добрые человеческие отношения становятся критерием истинного прогресса, писала она, не может ли оказаться вместе с нами горьковский Лука, не стоит ли заново послушать его, отделив сказку от правды, ложь от доброты? По ее мнению, Лука пришел к людям с добром, с просьбой не, обижать человека. Именно такого Луку она увидела в исполнении Н. Левкоева. Его игру она связала с традициями великого Москвина; доброте Луки приписала благотворное влияние на души ночлежников. «И самое интересное в этом спектакле, – заключала она, – близость Сатина и Луки, вернее даже рождение того Сатина, которого мы любим и знаем, именно после встречи с Лукой»[46 - Вишневская И. Начиналось, как обычно. – Театральная жизнь, 1967, №24, с. 11.].
Н. Барсуков ратовал за исторический подход к пьесе и ценил в спектакле прежде всего то, что заставляет в зрительном зале ощутить «век минувший». Он признает, что левкоевский Лука – «простой, сердечный и улыбчивый старик», что он «вызывает стремление побыть наедине с ним, послушать его рассказы о жизни, о силе человечности и правды». Но он против того, чтобы брать за эталон гуманистическую трактовку образа Луки, идущую на сцене от Москвина. По его глубокому убеждению, каким бы сердечным ни представляли Луку, добро, которое он проповедует, бездеятельно и вредно. Против он и того, чтобы усматривать между Сатиным и Лукою «некую гармонию», так как между ними – конфликт. Не согласен он и с утверждением Вишневской о том, что якобы самоубийство Актёра – не слабость, а «деяние, нравственное очищение». Сам Лука, «полагаясь на абстрактную человечность, оказывается беззащитным и вынужден покинуть тех, о ком печется»[47 - Барсуков Н. Правда – за Горьким. – Театральная жизнь, 1967, №24, с. 12.].
В споре критиков редакция журнала взяла сторону Н. Барсукова, полагая, что его взгляд на проблему «классика и современность» более верен. Однако на этом спор не закончился. Спектакль оказался в центре внимания на упоминавшемся фестивале в Горьком. О нем появились новые статьи в «Литературной газете», в журнале «Театр» и других изданиях. К полемике подключились артисты.
Н. А. Левкоев, народный артист РСФСР, исполнитель роли Луки, говорил:
«Я считаю Луку прежде всего человеколюбцем.
У него органическая потребность делать добро, он любит человека, страдает, видя его задавленным социальной несправедливостью, и стремится помочь ему чем только может.
…В каждом из нас есть отдельные черточки характера Луки, без которых мы просто не имеем права жить. Лука утверждает – кто верит, тот найдет. Вспомним слова нашей песенки, прогремевшей на весь мир: «Кто ищет, тот всегда найдет». Лука говорит, кто крепко чего-то хочет, тот всегда этого добьется. Вот она где, современность»[48 - Театр, 1968, №3, с. 14—15.].
Характеризуя постановку «На дне» в Горьковском драмтеатре, Вл. Пименов подчеркнул: «Этот спектакль хорош тем, что мы по-новому воспринимаем содержание пьесы, психологию людей „дна“. Конечно, можно по-иному толковать жизненную программу Луки, но мне по душе Лука Левкоева, которого он сыграл верно, проникновенно, не отвергая, однако, совершенно той концепции, которая сейчас существует как признанная, как хрестоматийная. Да, Горький писал, что ничего доброго у Луки нет, он только обманщик. Однако думается, что писатель никогда не запретил бы поисков новых решений в характерах героев своих пьес»[49 - Там же, с. 16.].
Кстати, в своей статье о спектакле, опубликованной в «Литературной газете», Вл. Пименов коснулся игры и другого исполнителя роли Луки у горьковчан – В. Дворжецкого. По его словам, Дворжецкий «изображает Луку как бы профессиональным проповедником. Он суше, строже, он просто принимает и складывает в свою душу чужие грехи и беды…».
Высоко оценил критик образ Сатина, созданный В. Самойловым. Он – «не оратор, торжественно вещающий громогласные истины, этот Сатин у Самойлова – человек с конкретной судьбой, живыми страстями, близкий и понятный людям ночлежки… Глядя на Сатина – Самойлова, понимаешь, что именно в этой горьковской-пьесе заложены многие начала интеллектуальной драмы современности»[50 - Пименов В л. Традиционное и новое. «На дне» в Горьковском театре драмы. – Литературная газета, 1968, 20 марта.]. Актёр (Н. Волошин), Бубнов (Н. Хлибко), Клещ (Е. Новиков) – близки Сатину. Это люди «с еще не растраченным до конца человеческим достоинством».
В майском номере журнала «Театр» за тот же 1968 год появилась обстоятельная и во многом интересная статья В. Сечина «Горький «по-старому». Упрекнув Свердловский драмтеатр за то, что в своих «Мещанах» тот трактует мещанство «прежде всего и почти исключительно – как социальное явление исторического прошлого», он сосредоточивает внимание на нижегородской постановке «На дне» и в споре Барсукова и Вишневской принимает в основном сторону последней.
На его взгляд, левкоевский Лука, которого он высоко ценит, никакой не «вредоносный проповедник» и не религиозен. Любимое слово Луки не «бог», которого он почти не называет, а «человек», и «то, что считалось прерогативой Сатина, на самом деле сущность образа Луки»[51 - Театр, 1968, №5, с. 22.]. По мнению критика, на протяжении спектакля «Лука никому не лжет и никого не вводит в обман». «Принято считать, – замечает автор,. – что из-за советов Луки все кончается трагически и жизнь ночлежников не только не меняется к лучшему, но становится еще хуже. Но ведь Никто из них не поступает согласно советам Луки!»[52 - Там же, с. 24.].
Сатин в спектакле, да и по существу, некая противоположность Луке. Лука предостерегает Пепла, а Сатин подстрекает. Сатин Самойлова вызывающе картинен.
В нем есть «мефистофельская уязвленность, он как бы не может простить миру, что обречен быть разрушителем, а не созидателем»[53 - Театр, 1968, №5, с. 25.].
Значительным событием в сценической истории «На дне» явилась постановка в московском «Современнике». Режиссер – Г. Волчек, художник – П. Кириллов.
Общий характер спектакля достаточно точно определили И. Соловьева и В. Шитова: люди – как люди, обыкновенные, и всякий человек своей цены стоит; и жизнь здесь – как жизнь, один из вариантов русской жизни; и ночлежники – «не людской самовозгорающийся мусор, не труха, не лузга, а люди битые, мятые, но не стертые, – со своим чеканом, еще различимом на каждом»[54 - Соловьев И., Шитова В. Люди нового спектакля, – Театр,1969, №3, с. 7.].
Они непривычно молоды, по-своему порядочны, не по-ночлежному опрятны, не трясут своими лохмотьями, не нагнетают ужасов. И подвал их не похож ни на пещеру, ни на сточную канаву, ни на бездонный колодец. Это всего лишь временное пристанище, где они в силу обстоятельств оказались, но не собираются задерживаться. Они мало заботятся о том, чтобы походить на ночлежников Хитрова рынка или обитателей нижегородской Миллионки. Заботит их какая-то более важная мысль, мысль о том, что все – люди, что главное не в обстановке, а в реальных отношениях между людьми, в той внутренней свободе духа, обрести которую можно даже на «дне». Артисты «Современника» стремятся создавать на сцене не типы, а образы людей, тонко чувствующих, мыслящих, легко ранимых и без «страстей-мордастей». Барон в исполнении А. Мягкова меньше всего похож на традиционного сутенера. В его отношении к Насте проступает скрытая человеческая теплота. Бубнов (П. Щербаков) прячет под цинизмом тоже что-то, в сущности, очень доброе, а Васька Пепел (О. Даль) по-настоящему совестится обижать Барона, хотя, быть может, тот и заслужил это. Лука Игоря Кваши не играет в доброту, он действительно добр если не по натуре, то по глубочайшему убеждению. Его вера в неисчерпаемые душевные силы человека неистребима, и сам он, по верному замечанию рецензентов, «согнется, испытает всю боль, сохранит о ней унижающую память – и выпрямится». Он уступит, но не отступит. Сатин (Е. Евстигнеев) далеко уйдет в скептицизме, но и он в нужную минуту перебьет сам себя на привычной фразе и заново откроет для себя и других, что не жалеть, а уважать человека надо. Глубоко гуманистическая концепция спектакля вплотную подводит и исполнителей и зрителей к главному – к преодолению идеи «дна», к постижению той действительной свободы духа, без которой настоящая жизнь невозможна.
Спектакль, к сожалению, останавливается на этом и не раскрывает в полной мере заложенные в пьесе потенциальные возможности. Тенденциозность пьесы, как еще отмечала А. Образцова, один из первых рецензентов спектакля, шире, глубже, философски значительнее, нежели тенденциозность её сценического истолкования. «В спектакле недостаточно чувствуется атмосфера ответственного и сложного философского диспута… Переизбыток чувствительности мешает подчас вдуматься в некоторые важные мысли. Не всегда достаточно четко расставлены силы в дискуссии…»[55 - Советская культура, 1968, 28 дек.].
А. Образцова, высоко оценив спектакль в целом, была не совсем довольна раскрытием философского, интеллектуального содержания пьесы. Оставаясь физически на дне жизни, герои Горького в сознании своем уже поднимаются со дна жизни. Они постигают свободу ответственности (» человек за все платит сам»), свободу цели («человек рождается для лучшего»), близки к освобождению от анархического восприятия и истолкования свободы, но все это, по мнению критика, «не уложилось» в спектакле. Особенно в этом смысле не удался финал.
Не получился финал, на взгляд В. Сечина, и в спектакле Горьковского драмтеатра.
«Но вот Луки нет. Ночлежники пьют. И театр создает тяжелую, полную драматизма, атмосферу пьяного загула. Здесь еще нет подлинного ощущения предгрозового взрыва, но, думается, задача будущих постановщиков „На дне“ как раз и будет состоять в том, чтобы поставить ночлежников в четвертом действии на грань готовности к самым активным поступкам: еще неясно, что каждый из них может совершить, но ясно одно – так дальше жить нельзя, что-то надо делать. И тогда песня „Солнце всходит и заходит“ будет не былинно-спокойной и умиротворенной, как в этом спектакле, а, наоборот, знаком готовности к действию»[56 - Сечин В. Горький «по-старому». – Театр, 1968, №5, с. 26.].
Постановка «На дне» в московском «Современнике» не вызвала в театральной критике особых разногласий и споров, подобных спорам вокруг горьковской постановки. Объясняется, видимо, это тем, что спектакль москвичей был более определенным и законченным как в деталях, так и в общем рисунке, нежели у их провинциальных коллег. Последние находились как бы на полпути к новому прочтению пьесы, да и шли к этому не так решительно. Многое у них сложилось стихийно, благодаря ярким индивидуальностям исполнителей. Это относится прежде всего к главным фигурам спектакля Самойлову – Сатину и Левкоеву – Луке. Финал явно дисгармонировал с теми порывами к человечности, которые составляли саму сущность спектакля. В интерпретации горьковчан финал оказался даже традиционнее едва ли не самых традиционных решений, так как почти наглухо закрывал все выходы для обитателей ночлежки.
Вместе с тем спектакль горьковчан оказался в те годы, пожалуй, единственным, в котором не было, вернее, не ощущалось режиссерской преднамеренности. Отталкиваясь от традиционного опыта в изображении людей «дна», навеянного знаменитой постановкой Станиславского и накопленного своим театром, со сцены которого знаменитая пьеса не сходила долгие годы и раньше, Б. Воронов и его труппа обретали новое просто, естественно, без заранее обдуманной цели. Спорящие критики легко находили в спектакле желаемое.
Нередко одно и то же явление они оценивали прямо противоположным образом. Так, по мнению одних, Клещ в исполнении Е. Новикова «обретает свободу за общим столом в ночлежке», а другие, глядя на ту же самую игру, возражали, что он, Клещ, все же «не сливается с ночлежкой, не погружается в ее мутный поток».
Таким образом, шестидесятые годы – важный этап в сценической истории пьесы «На дне». Они подтвердили жизненность произведения, его современность и неисчерпаемые сценические возможности горьковской драматургии. Постановки Ленинградского драматического театра имени А. С. Пушкина, Горьковского театра драмы имени А. М. Горького, московского театра «Современник» по-новому раскрыли гуманистическое содержание пьесы «На дне». Интересны были также попытки по-своему прочесть знаменитую пьесу в Киеве, Владивостоке, Смоленске, Архангельске и некоторых других городах. После многолетнего невнимания наших театров к этой пьесе Горького шестидесятые годы оказались для нее триумфальными. К сожалению, успехи, достигнутые тогда на сцене, не нашли развития в последующее десятилетие. Едва отшумели юбилейные горьковские дни, как спектакли стали «выравниваться», «стираться», стареть, а то и вовсе сходить со сцены – вместо того, чтобы идти вперед, навстречу нынешнему дню.
В чем причина?
В чем угодно, только не в утрате интереса к пьесе со стороны зрителя.
Например, спектакль «На дне» в Горьковском драматическом театре давался одиннадцать лет и все эти годы пользовался устойчивым вниманием публики. Это можно видеть из следующей статистической таблицы.
На этом следует остановиться.
Одна из причин заключалась в непродуманности и поспешности, с какой готовились юбилейные спектакли. При всей своей внешней простоте и непритязательности пьеса «На дне» многомерна, многогранна и исполнена глубочайшего философского смысла. Наши же постановщики в эти годы много и смело экспериментировали, но не всегда должным образом обосновывали свои эксперименты. Критики же либо безмерно превозносили театральные начинания, как это было, к примеру, с постановкой в Кировском драмтеатре, либо подвергали их необоснованному осуждению и в попытках театров по-новому прочесть Горького не увидели ничего, кроме «поветрия», которое якобы «находится в прямом противоречии с развитием нашей литературы и всего нашего искусства».
Ill
Пьесе «На дне» не слишком везло с критикой.
Первым и, пожалуй, самым пристрастным и суровым её критиком оказался сам Максим Горький.
Характеризуя блистательный успех пьесы в Художественном театре, он писал К. Пятницкому: «Тем не менее – ни публика, ни рецензята – пьесу не раскусили. Хвалить – хвалят, а понимать не хотят. Я теперь соображаю – кто виноват? Талант Москвина – Луки или же неумение автора? И мне не очень весело»[57 - Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1949—1956, т. 28, с. 279. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте с указанием тома и страницы.].
В беседе с сотрудником «С.-Петербургских ведомостей» Горький повторит и усилит сказанное.
«Горький совершенно открыто признавал свое драматическое детище неудавшимся произведением, чуждым по идее как горьковскому миросозерцанию, так и его прежним литературным настроениям. Фактура пьесы совершенно не соответствует ее окончательной постройке. По основному замыслу автора Лука, например, должен был явиться отрицательным типом. В противовес ему предполагалось дать тип положительный – Сатина, истинного героя пьесы, alter ego Горького. В действительности вышло все наоборот: Лука, с его философствованием, превратился в тип положительный, а Сатин, неожиданно для себя, очутился в роли ноющего подгудка Луки»[58 - Внутренние известия (Москва). – С.-Петербургские ведомости, 1903, 14 апр.].
Пройдет еще немного времени, и в «Петербургской газете» появится еще одно авторское признание:
« – Правда ли, что вы сами недовольны своим произведением? – Да, пьеса написана слабовато. В ней нет противопоставления тому, что говорит Лука; Основной вопрос, который я. хотел поставить, это – что лучше, истина или сострадание? Что нужнее? Нужно ли доводить сострадание до того, чтобы пользоваться ложью, как Лука. Это вопрос не субъективный, а общефилософский, Лука представитель сострадания и даже лжи как средства спасения, а между тем противопоставления проповеди Луки, представителей истины в пьесе нет. Клещ, Барон, Пепел – это факты жизни, а надо различать факты от истины. Это далеко не одно и то же. Бубнов вот протестует против лжи». И, далее, о том, что «симпатии автора „На дне“ не на стороне проповедников лжи и сострадания, а, напротив, на стороне тех, кто стремится к истине»[59 - Неманов Л. Беседа на пароходе с М. Горьким, – Петербургская газета, 1903, 15 нюня.].
С годами отрицательное отношение к пьесе со стороны её автора не только не ослабнет, но даже усилится.