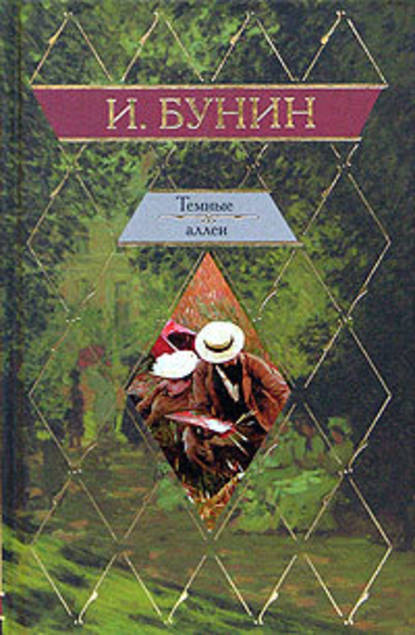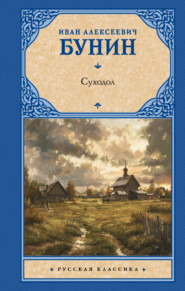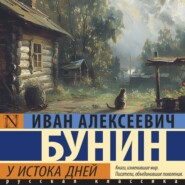По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Темные аллеи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да нет, я сама…
– Сядь, тебе говорят.
Она села и протянула правую ногу. Он встал на одно колено, ногу положил на другое, она стыдливо одёрнула подол на чёрный чулок:
– Вот какой вы, ей-Богу! Они, правда, у меня страсть тесные…
– Молчи.
И, быстро стащив ботики один за другим вместе с туфлями, откинул подол с ноги, крепко поцеловал в голое тело выше колена и встал с красным лицом:
– Ну, скорей… Не могу…
– Что не можете? – спросила она, стоя на ковре маленькими ногами в одних чулках, трогательно уменьшившись в росте.
– Совсем дурочка! Ждать не могу, – поняла?
– Раздеваться?
– Нет, одеваться!
И, отвернувшись, подошёл к окну и торопливо закурил. За двойными стёклами, снизу замёрзшими, бледно светили в месячном свете фонари, слышно было, как, гремя, неслись мимо, вверх по Тверской, бубенцы на «голубках»… Через минуту она окликнула его:
– Я уж лежу.
Он потушил свет и, как попало раздевшись, лёг к ней под одеяло. Она, вся дрожа, прижалась к нему и зашептала с мелким, счастливым смехом:
– Только за ради Бога не дуйте мне в шею, на весь дом закричу, страсть боюсь щекотки…
С час после того она крепко спала. Лёжа рядом с ней, он глядел в полутьму, смешанную с мутным светом с улицы, думая с неразрешающимся недоумением: как это может быть, что она под утро куда-то уйдёт? Куда? Живёт с какими-то стервами над какой-нибудь прачечной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых – и какая детская беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу», когда она завтра соберётся уходить…
– Поля, – сказал он, садясь и трогая её за голое плечо.
Она испуганно очнулась:
– Ох, батюшки! Извините, пожалуйста, совсем нечаянно заснула… Я сичас, сичас…
– Что сейчас?
– Сичас встану, оденусь…
– Да нет, давай ужинать. Никуда я тебя не пущу до утра.
– Что вы, что вы! А полиция?
– Глупости. А мадера у меня ничуть не хуже портвейна твоего шулера.
– Что ж вы мне все попрекаете им?
Он внезапно зажёг свет, резко ударивший ей в глаза, она сунула голову в подушку. Он сдёрнул с неё одеяло, стал целовать в затылок, она радостно забила ногами:
– Ой, не щекотите!
Он принёс с подоконника бумажный мешочек с яблоками и бутылку крымской мадеры, взял с умывальника два стакана, сел опять на постель и сказал:
– Вот, ешь и пей. А то убью.
Она крепко надкусила яблоко и стала есть, запивая мадерой и рассудительно говоря:
– А что ж вы думаете? Может, кто и убьёт. Наше дело такое. Идёшь неизвестно куда, неизвестно с кем, а он либо пьяный, либо полоумный, кинется и задушит, либо зарежет… А до чего у вас тёплый номер! Сидишь вся голая и все тепло. Это мадера? Вот люблю! Куда ж сравнить с портвейном, он завсегда пробкой пахнет.
– Ну, не завсегда.
– Нет, ей-Богу, пахнет, хоть два рубля за бутылку заплати, одна честь.
– Ну, давай ещё налью. Давай чокнемся, выпьем и поцелуемся. До дна, до дна.
Она выпила, и так поспешно, что задохнулась, закашлялась и, смеясь, упала головой к нему на грудь. Он поднял ей голову и поцеловал в мокрые, деликатно сжатые губки.
– А меня придёшь провожать на вокзал?
Она удивлённо раскрыла рот:
– Вы тоже уедете? Куда? Когда?
– В Петербург. Да это ещё не скоро.
– Ну, слава Богу! Я теперь только к вам буду ходить. Вы хочете?
– Хочу. Только ко мне одному. Слышишь?
– Ни за какие деньги ни к кому не пойду.
– Ну то-то же. А теперь – спать.
– Да мне нужно на минуточку…
– Вот тут, в тумбочке.
– Мне на виду стыдно. Погасите на минуточку огонь…
– И совсем погашу. Третий час…
В постели она легла ему на руку, опять вся прижавшись к нему, но уже тихо, ласково, а он стал говорить:
– Завтра мы с тобой будем вместе завтракать…
Она живо подняла голову: