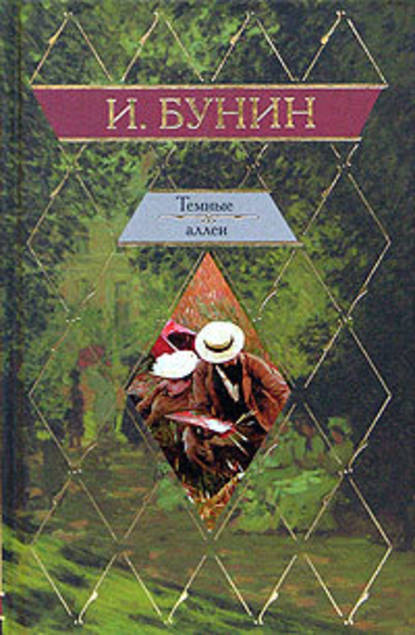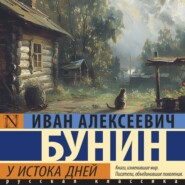По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Темные аллеи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я видела вас на балу и Воронеже… Как ещё молода была я тогда и как удивительно несчастна! Хотя разве бывает несчастная любовь? – сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. – Разве самая скорбная в мире музыка не даёт счастья? Но расскажите мне о себе, неужели вы навсегда поселились в деревне? Я с усилием спросил:
– Значит, вы тогда меня ещё любили?
– Да.
Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнём.
– Это правда, что я слышала… что у вас есть любовь, ребёнок?
– Это не любовь, – сказал я. – Страшная жалость, нежность, но и только.
– Расскажите мне все.
И я рассказал все – вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне «поехать, пожить в своё удовольствие». И кончил так:
– Теперь вы видите, что я всячески погиб…
– Полноте! – сказала она, думая что-то своё. – У вас ещё вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребёнка не пожалеет, не то что себя.
– Не в браке дело, – сказал я. – Бог мой! Мне жениться!
Она в раздумье посмотрела на меня:
– Да, да. И как странно. Ваше предсказание сбылось – мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь?
И положила руку на руку мне:
– Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильоне приготовлена…
Я покорно поцеловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сел у раскрытого окна, в кресле возле постели, стал курить, думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заехал, понадеялся на своё спокойствие, на свои силы… Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошёл ещё небольшой дождь – ещё теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пели вдали, в разных местах села, первые петухи. Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды, за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стеклянно, в тени же пёстро и таинственно… И она, в чём-то длинном, тёмном, шелковисто блестевшем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно…
Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочерёдно говорили – она, лёжа на постели, я, стоя на коленях возле и держа её руку:
– В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было.
– Да, я со временем все поняла. И всё-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее…
– Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зелёную чесучу и на твои колени под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней.
– Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы?
– Забывал только так, как забываешь, что живёшь, дышишь. И ты правду сказала: нет несчастной любви. Ах, эта твоя оранжевая распашонка и вся ты, ещё почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе! Потом твоя рука в рукаве малороссийской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»
– Да, да.
– А потом ты на балу – такая высокая и такая страшная в своей уже женской красоте, – как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и погибели! Потом ты со свечой в руке, твой траур и твоя непорочность в нём. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица.
– И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко – разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?
В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах.
4 апреля 1941
III
В ОДНОЙ ЗНАКОМОЙ УЛИЦЕ
Осенней парижской ночью шёл по бульвару в сумраке от густой, свежей зелени, под которой металлически блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал:
В одной знакомой улице
Я помню старый дом
С высокой тёмной лестницей,
С завешенным окном…
– Чудесные стихи! И как удивительно, что всё это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко – и я, студент, какой-то тот я, в существование которого теперь уже не верится…
Там огонёк таинственный
До полночи светил…
– И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развевал его, и светилось вверху, в мезонине, за красной ситцевой занавеской…
Ах, что за чудо девушка,
В заветный час ночной,
Меня встречала в доме том
С распущенной косой…
– И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою нищую семью, уехавшая в Москву на курсы… И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесённое снегом, дёргал кольцо шуршащей проволоки, проведённой в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок – и за дверью слышались быстро сбегавшие с крутой деревянной лестницы шаги, дверь отворялась – и на неё, на её шаль и белую кофточку несло ветром, метелью… Я кидался целовать её, обнимая от ветра, и мы бежали наверх, в морозном холоде и в темноте лестницы, в её тоже холодную комнатку, скучно освещённую керосиновой лампочкой… Красная занавеска на окне, столик под ним с этой лампочкой, у стены железная кровать. Я бросал куда попало шинель, картуз и брал её к себе на колени, сев на кровать, чувствуя сквозь юбочку её тело, её косточки… Распущенной косы не было, была заплетённая, довольно бедная русая, было простонародное лицо, прозрачное от голода, глаза тоже прозрачные, крестьянские, губы той нежности, что бывают у слабых девушек…
Как не по-детски пламенно
Прильнув к устам моим,
Она, дрожа, шептала мне:
«Послушай, убежим!»
– Убежим! Куда, зачем, от кого? Как прелестна эта горячая, детская глупость: «Убежим!» У нас «убежим» не было. Были эти слабые, сладчайшие в мире губы, были от избытка счастья выступавшие на глаза горячие слезы, тяжкое томление юных тел, от которого мы клонили на плечо друг другу головы, и губы её уже горели, как в жару, когда я расстёгивал её кофточку, целовал млечную девичью грудь с твердевшим недозрелой земляникой остриём… Придя в себя, она вскакивала, зажигала спиртовку, подогревала жидкий чай, и мы запивали им белый хлеб с сыром в красной шкурке, без конца говоря о нашем будущем, чувствуя, как несёт из-под занавески зимой, свежим холодом, слушая, как сыплет в окно снегом… «В одной знакомой улице я помню старый дом…» Что ещё помню! Помню, как веной провожал её на Курском вокзале, как мы спешили по платформе с её ивовой корзинкой и свёртком красного одеяла в ремнях, бежали вдоль длинного поезда, уже готового к отходу, заглядывали в переполненные народом зелёные вагоны… Помню, как наконец она взобралась в сенцы одного из них и мы говорили, прощались и целовали друг другу руки, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов… Больше ничего не помню. Ничего больше и не было.
25 мая 1944
РЕЧНОЙ ТРАКТИР
В «Праге» сверкали люстры, играл среди обеденного шума и говора струнный португальский оркестр, не было ни одного свободного места. Я постоял, оглядываясь, и уже хотел уходить, как увидел знакомого военного доктора, который тотчас пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю тёплую ночь, на гремящий трамваями Арбат. Пообедали вместе, порядочно выпив водки и кахетинского, разговаривая о недавно созванной Государственной думе, спросили кофе. Доктор вынул старый серебряный портсигар, предложил мне свою асмоловскую «пушку» и, закуривая, сказал:
– Да, все Дума да Дума… Не выпить ли нам коньяку? Грустно что-то.
Я принял это в шутку, человек он был характера спокойного и суховатого (крепкий и сильный сложением, к которому очень шла военная форма, жёстко рыжий, с серебром на висках), но он серьёзно прибавил:
– От весны, должно быть, грустно. К старости, да ещё холостой, мечтательной, становишься вообще гораздо чувствительнее, чем в молодости. Слышите, как пахнет тополем, как звонко гремят трамваи? Кстати, закроем-ка окно, неуютно, – сказал он, вставая. – Иван Степаныч, шустовского…
Пока старый половой Иван Степаныч ходил за шустовским, он рассеянно молчал. Когда подали и налили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал, хлебнув коньяку и из горячей чашечки: