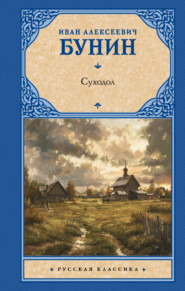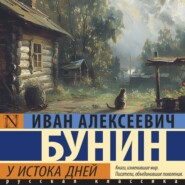По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Божье древо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Божье древо
Иван Алексеевич Бунин
«Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомолов. Стеречь его прислал своего земляка, однодворца из-под Козлова.
Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит смотрит какой-то мужик. Подходим ближе – мужик шутливо, с усмешкой опускает руки по швам, вытягивается…»
Иван Бунин
Божье древо
14 июня.
Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомолов. Стеречь его прислал своего земляка, однодворца из-под Козлова.
Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит смотрит какой-то мужик. Подходим ближе – мужик шутливо, с усмешкой опускает руки по швам, вытягивается:
– Господам дворянам почтение!
Мы приостановились:
– Доброго здоровья. Караульщик?
Он снял шапку и уже без всякой шутливости, низко, истово поклонился:
– Так точно. Буду караулить, вам и хозяину угожать.
– Так… Надевай шапку-то.
– Ничаго, и без шапки постоим. Вы господа, я мужик. Бог лесу, и то не сравнял.
– А откуда ты и как величать тебя?
– Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.
И все так ладно, бодро. Что однодворец, сразу заметно – по говору. Возраста неопределенного, – лет под пятьдесят, должно быть, хотя можно дать и меньше, – наружности довольно обычной, но чем-то очень приятной. Посконная рубаха, такие же портки, на ногах лапти, – все не новое, поношенное, но опрятное. Глаза живые, немного насмешливые и прищуренные, умудренные наблюдательностью и житейским опытом, в соответствии с небольшой кое-где седеющей бородой, которая еще курчавится и, видно, была когда-то черной. Но в звуке грудного голоса и во всей повадке есть в то же время что-то молодое, простодушное. Представившись, надел шапку и опять усмехнулся:
– Вот чаек себе налаживаю. Самоварчикя, признаться, нету, да эта одна баловство, и из чугунчикя попьем…
Мы заглянули в шалаш, – там, конечно, все как полагается: красная подушка и затертый, ссохшийся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножичек…
– Домок, как у зайца тяремок, – еще раз пошутил он. – Милости просим гостями быть…
В саду было сумрачно от туч, с поля дул мягкий ветер. Мы взглянули сквозь листву на небо:
– А как думаешь, будет дождь?
Он, прищуриваясь, тоже поднял лицо кверху:
– Кабыть так. Маяго кобелькя нынче что-й-то весь день не видать, весь день на гумне мышкуя. А это уж обязательно к дожжу, она, мышь-крыса усякая, перед дожжем сильней пахня. Ну, що ж, и помоча маленько, авось не сахарные, не растаем…
Говор старинный, косолапый, крупный. Он говорит: що, каго, яго, маяго, табе, сабе, теперь, но все как-то так, что слушать его большое удовольствие. Иногда, конечно, сбивается на обычный народный язык наших мест.
Когда мы отошли и пошли по аллее дальше, он стал собирать в траве сухую листву и сучки и, подбрасывая их в огонь, стал негромко напевать (вернее, приговаривать):
Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка,
Где ж ты бывала,
Где ж ты лятала?
Мы невольно засмеялись – так ловко у него это выходило – и опять приостановились:
– Как, как?
– А вы раззе ня знаятя? – ответил он, тоже засмеявшись. И тотчас же без всякого смущения, с видимой охотой, слегка поднял свой грудной голос:
Где ж ты бывала?
Где ж ты лятала?
И стал пошевеливать плечами, покачивать головой:
Нихто совушку ня знал,
Нихто ее не сползал,
Спознали два луня,
Спознали два друга:
– Ты приветь мине, луня,
Поди замуж за мине!
– А она, значит, не жалае, не хоча, – сказал он, смеясь, и опять запел шутливо и жалостно:
А она не хоча
Ды как захохоча!
Назад сторонилась,
У лес завалилась –
Кверху ногою,
Об пень головою…
Ах, що ж это в лесе?
Каго это беся?
15 июня.
Погода все хмурится, от скуки ездили в Осиновые Дворы, за коновалом. Перед вечером опять пошли в аллею, к шалашу. Посидели, поговорили с Яковом. Спрашиваем:
– А ты, значит, куришь, Яков Демидыч?
– Я-то? – сказал он. – А я все могу. Могу курить, могу и цельный год так ходить. Мая душа прямая, все примая, и мед, и тот прет. На гулянках и покурить ни плохо.
– А насчет водочки как?
– А я человек мирской. Що Илья, то и я, що Евсей, то и все. Хто ж от нее откажется? Не пьют на небеси, а тут кому ни поднеси. Зашел так-то праздник престольный – отчего ж нямножко не погулять, не потратиться? Я ня жадный, я добродушный. Их, денег, жалеть нечево. Понурая голова и с рублем пропадае!
Иван Алексеевич Бунин
«Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомолов. Стеречь его прислал своего земляка, однодворца из-под Козлова.
Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит смотрит какой-то мужик. Подходим ближе – мужик шутливо, с усмешкой опускает руки по швам, вытягивается…»
Иван Бунин
Божье древо
14 июня.
Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомолов. Стеречь его прислал своего земляка, однодворца из-под Козлова.
Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит смотрит какой-то мужик. Подходим ближе – мужик шутливо, с усмешкой опускает руки по швам, вытягивается:
– Господам дворянам почтение!
Мы приостановились:
– Доброго здоровья. Караульщик?
Он снял шапку и уже без всякой шутливости, низко, истово поклонился:
– Так точно. Буду караулить, вам и хозяину угожать.
– Так… Надевай шапку-то.
– Ничаго, и без шапки постоим. Вы господа, я мужик. Бог лесу, и то не сравнял.
– А откуда ты и как величать тебя?
– Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.
И все так ладно, бодро. Что однодворец, сразу заметно – по говору. Возраста неопределенного, – лет под пятьдесят, должно быть, хотя можно дать и меньше, – наружности довольно обычной, но чем-то очень приятной. Посконная рубаха, такие же портки, на ногах лапти, – все не новое, поношенное, но опрятное. Глаза живые, немного насмешливые и прищуренные, умудренные наблюдательностью и житейским опытом, в соответствии с небольшой кое-где седеющей бородой, которая еще курчавится и, видно, была когда-то черной. Но в звуке грудного голоса и во всей повадке есть в то же время что-то молодое, простодушное. Представившись, надел шапку и опять усмехнулся:
– Вот чаек себе налаживаю. Самоварчикя, признаться, нету, да эта одна баловство, и из чугунчикя попьем…
Мы заглянули в шалаш, – там, конечно, все как полагается: красная подушка и затертый, ссохшийся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножичек…
– Домок, как у зайца тяремок, – еще раз пошутил он. – Милости просим гостями быть…
В саду было сумрачно от туч, с поля дул мягкий ветер. Мы взглянули сквозь листву на небо:
– А как думаешь, будет дождь?
Он, прищуриваясь, тоже поднял лицо кверху:
– Кабыть так. Маяго кобелькя нынче что-й-то весь день не видать, весь день на гумне мышкуя. А это уж обязательно к дожжу, она, мышь-крыса усякая, перед дожжем сильней пахня. Ну, що ж, и помоча маленько, авось не сахарные, не растаем…
Говор старинный, косолапый, крупный. Он говорит: що, каго, яго, маяго, табе, сабе, теперь, но все как-то так, что слушать его большое удовольствие. Иногда, конечно, сбивается на обычный народный язык наших мест.
Когда мы отошли и пошли по аллее дальше, он стал собирать в траве сухую листву и сучки и, подбрасывая их в огонь, стал негромко напевать (вернее, приговаривать):
Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка,
Где ж ты бывала,
Где ж ты лятала?
Мы невольно засмеялись – так ловко у него это выходило – и опять приостановились:
– Как, как?
– А вы раззе ня знаятя? – ответил он, тоже засмеявшись. И тотчас же без всякого смущения, с видимой охотой, слегка поднял свой грудной голос:
Где ж ты бывала?
Где ж ты лятала?
И стал пошевеливать плечами, покачивать головой:
Нихто совушку ня знал,
Нихто ее не сползал,
Спознали два луня,
Спознали два друга:
– Ты приветь мине, луня,
Поди замуж за мине!
– А она, значит, не жалае, не хоча, – сказал он, смеясь, и опять запел шутливо и жалостно:
А она не хоча
Ды как захохоча!
Назад сторонилась,
У лес завалилась –
Кверху ногою,
Об пень головою…
Ах, що ж это в лесе?
Каго это беся?
15 июня.
Погода все хмурится, от скуки ездили в Осиновые Дворы, за коновалом. Перед вечером опять пошли в аллею, к шалашу. Посидели, поговорили с Яковом. Спрашиваем:
– А ты, значит, куришь, Яков Демидыч?
– Я-то? – сказал он. – А я все могу. Могу курить, могу и цельный год так ходить. Мая душа прямая, все примая, и мед, и тот прет. На гулянках и покурить ни плохо.
– А насчет водочки как?
– А я человек мирской. Що Илья, то и я, що Евсей, то и все. Хто ж от нее откажется? Не пьют на небеси, а тут кому ни поднеси. Зашел так-то праздник престольный – отчего ж нямножко не погулять, не потратиться? Я ня жадный, я добродушный. Их, денег, жалеть нечево. Понурая голова и с рублем пропадае!