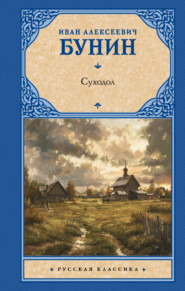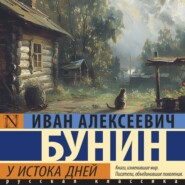По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Божье древо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потом поговорили о том, что и как, надо полагать, уродится нынешним летом в саду, в поле. Он с удовольствием поддерживает всякий разговор. Очень словоохотлив, однако не болтлив. Главная черта его, кажется, заключается в неизменно ровном и отличном расположении духа. То и дело с неподражаемой легкостью и приятностью надо всем подшучивает, подтрунивает.
Между прочим, спросил:
– А вы що ж, господа, только лето тут, а то все в Москве?
И стал трунить над Москвой, над воображаемыми московскими белоручками, щеголями – и рассказал целую историю о том, как будто бы приехал однажды в деревню некий московский «обуватель», то есть обыватель, как он ничего не ел, не пил, брезгуя всем деревенским, и как неудачно сходил он за нуждой за избу: сел там да так замечтался о московских кушаньях, что собаки ему «причинное место» оторвали.
– Он как вскоча: ах, що ж мне, мол, таперь делать, да за ними, – не успел и штанов подхватить, – a оне по деревне да прямо в народ, на улицу, а там девок цельный карогод…
Начал рассказ шутя, отрывисто, но тотчас стал увлекаться, глаза, брови заиграли, быстро меняя выражение, изображая то мужиков, то чванного москвича, то подкрадывающихся к нему собак, а потом вдруг вскрикнул, как бы от внезапной боли, подскочил, ударил себя по ляжкам, затопал лаптями, – бросился, значит, бежать, – и согнулся, повалился вперед, хохоча вместе с воображаемыми девками.
– Ах, батюшки, да що ж эта такое, вот срам-то, девки!
– А ты был когда-нибудь в Москве? – спросили мы.
– А на що она мне? – сказал он с веселой небрежностью. – Мы люди простые, черные. Там, говорят, нажива одна, людодерство, усе норовят друг над другом поверхность одержать, друг у друга что ни есть ухамить… А вы, я слышал, на степь ездили?
– Да, – ответили мы. – Да это только так говорится степь, а это просто ровная местность. У нас настоящих степей нету.
– Эта правда, у вас тут буераков много, – сказал он. – А вот как выедешь за Елец, за Задонск, прямо душа радуется, конца-краю этой степи не видать, до самого синя-моря идет, до Нагая. И чаво только нету там! И овсы, и ячменя, и твяты (цветы) усякие, и ковыль белый, седатый… Я так полагаю, лучче нашей державы во всем свете нету!
Потом рассказал, где, в каких «странах» он бывал – «за самый Царицын подавался», – какие «народности» видел, и я все дивился, сколько употребляет он слов старинных, Древних даже, почти всеми забытых: изнугряться вместо издеваться, ухамить вместо урвать, варяжить вместо торговать, огонь взгнетать вместо зажигать… Нагайцев он назвал кумане, – древнее название половцев, – конину маханиной. Формы у него тоже свои: «Он неладно думал об мужиков», сказал он, например, про москвича. А про своего кобелька так:
– Он любит воять в темные ночи.
16 июня.
Нынче жарко, парит, на дворе тепло пахнет разогретой муравой, из-за ярко-зеленых вершин сада ослепительно белеют великолепно круглящиеся облака.
Перед завтраком вышел пройтись, иду по аллее, слушая птиц, на все лады заливающихся в солнечном саду, а впереди Яков: тащит к шалашу тяжелое ведро, из которого точно серебряными рыбами выплескивается порой вода, и вниз по его рубахе и порткам течет пестрая, радостная сеть света и тени. Голова опущена, шапка с затылка сдвинута на лоб. Догнал, шутя спрашиваю:
– Что, Яков Демидыч, не весел?
Живо поднял голову, глаза тотчас заиграли:
– Чем не весел?
– Да как же, – шапка на лоб, идешь грустный.
– Чем грузный?
– Да не грузный, а грустный, скучный.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: