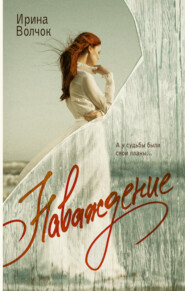По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
300 дней и вся оставшаяся жизнь
Автор
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
300 дней и вся оставшаяся жизнь
Ирина Волчок
Уходя в армию, Генка был уверен, что для его любви к Инночке не может быть никаких препятствий. Ни то, что Инночка его начальник, ни то, что она намного старше, ни ее почти взрослый сын… И даже то, что она не ответила ни на одно его письмо, не вызывало в нем сомнений в том, что она его дождется.
Но с изуродованным лицом и беспалой рукой он не мог показаться ей на глаза.
А Инночка просто не заметила, что он изуродован… Любовь слепа. Слепа? Да ничего подобного. Любовь умеет видеть главное большую душу, большое сердце, большую ответную любовь.
Ирина Волчок
300 дней и вся оставшаяся жизнь
Глава 1
Ненавижу Москву, – привычно думала она. Причиной ненависти, пожалуй, было то, что ее мама называла «топографическим идиотизмом». Инна Лучинина – тридцати трех лет, русская, инициативный сотрудник, практически здоровая, да и вообще вполне нормальный человек, – была способна заблудиться на Курском вокзале. Да что там «была способна» – приезжая в столицу хотя бы раз в два года, она тут же, на вокзале, и переставала ориентироваться, блуждая среди ярких ларьков, лезущей в уши музыки, противных запахов общепита, бестолковых указателей, сонных, вздрюченных и сонно-вздрюченных пассажиров, злясь на себя все больше и почему-то не решаясь спросить дорогу до метро.
В метро тоже все страшно раздражало: эскалатор, который норовил откусить шпильки новеньких осенних полусапожек, реклама, соседи по движущейся лестнице, снова реклама…
Впрочем, сегодня она почти не замечала всего того, что обычно ей так не нравилось. Сегодня она думала, что едет «туда, не знаю куда», и даже если ей удастся без дополнительных приключений добраться до места назначения, что и как там делать или не делать, тоже непонятно.
Красивое название подмосковного городка, где располагался военный госпиталь, Инночка для себя сразу злобно и навсегда переделала в Крысьегнездовск. Этот Крысьегнездовск давно уже считался частью мегаполиса, но ехать до него надо было на электричке, причем с Павелецкого вокзала, на котором она ни разу не была.
«С моим счастьем – только по грибы, да и те разбегутся!» – непонятно почему вспомнились слова героя из любимой книги ее сына. Впрочем, «почему» – стало понятно буквально через десять минут: в расписании движения чертовых электричек на чертов Крысьегнездовск образовалось какое-то абсурдное «окно» в полтора часа. Следовательно, прибудет она в госпиталь – это если повезет с такси – не раньше двух часов. Будут ли еще в это время на месте врачи? Потому что встретиться с ним вот так, сразу, глаза в глаза, после того, что наговорила его мамаша, Инночка просто физически не могла. Как себя вести? Бодриться, балагурить? Этого она никогда не умела… Кричать, ругаться, возмущаться: почему не сообщил, не написал, не позвонил, почему такие новости она узнает через почти два месяца после событий? А собственно, почему должно быть иначе? Ведь она-то сама не написала ему ни единой строчки. Только эти ее дурацкие записи в дурацком дневнике… Но он-то о них и подозревать не мог, откуда бы?
А что, если она начнет плакать, просто реветь белугой, как профессиональная плакальщица на деревенских похоронах… У нее ведь слезы всегда были близко…
Ожидая загулявшую где-то электричку, Инночка с каким-то мучительным старанием вспоминала, как в офисе появилась… да баба, назвать это существо женщиной язык не поворачивался: ни шага в сторону от имиджа привокзальной (таких даже на вокзал не пускают) престарелой шлюхи. При всех она начала орать, что из-за «некоторых потаскух хорошие мальчики попадают на войну, любимого сыночку, кровиночку, изувечили, а она тут сидит вся из себя в шоколаде…»
В первые минуты она вообще ничего не поняла. Потом поняла и начала плакать. Сначала плакала, потом рыдала, а потом кто-то, кажется, Женька, влепил – этой, как ее? – Раисе Петровне пощечину – чтобы заткнулась, и ей, Инночке, тоже – чтобы успокоилась. Рыдать-то она перестала, но в голове по-прежнему билось: изувечили!
– Что значит – изувечили? – спросила она притихшую бабу.
Та сказала, что не знает, что письмо ей не сын прислал (от него дождешься, как же! Раз в месяц: со мной все в порядке – и все!), а сосед сына по палате в госпитале где-то под Москвой.
– Где письмо? – спросила Инночка. – Дайте мне письмо!
Баба швырнула ей в лицо порванный чуть ли не пополам конверт, сказала нечто такое, из чего Инночка и половины не поняла, а охранник Олежка восхищенно присвистнул. Раиса – как ее? – Петровна, хлопнув изо всех сил дверью, ушла. А Инночка осталась. С письмом. Вот оно, мятое, в сумочке.
Инночка щелкнула замочком кожаной сумочки, взяла в руки конверт. Вспомнила, как мучительно разбирала смазанный почтовый штемпель, чтобы выяснить, в какой именно подмосковный госпиталь ей надо ехать. И ехать сегодня же, ночным, чтобы утром быть уже в Москве, а днем (сутки – это много или мало?) увидеть его. Или нет – сначала поговорить с врачом.
«Здравствуйте, мамаша Геннадия! – начиналось письмо. – Не пишу вам „уважаемая“, потому что не уважаю. Ваш сын второй месяц гниет на больничной кровати, а от вас ни слуху, ни духу. Тут ко всем матеря поприезжали, невесты, а он один. Отвернется к стене и лежит. Почти и не разговаривает с нами, и гостинцы не берет, только сигареты».
Да уж, разговорчивостью он никогда не отличался. То ли дело письма, которых уже целый ящик стола у нее дома. И ведь не екнуло ничего у дуры, когда очередное письмо в среду – да, именно среда была – не пришло. И в четверг, и в пятницу, и дальше. Чуть ли не перекрестилась, почувствовав облегчение: все, разрубился гордиев узел наконец, ну какая, к черту, любовь… Обидно, конечно, было. Ведь сама вроде уже поняла: не просто так, не просто так. И все равно вздохнула с облегчением – ну, не могло быть никакого будущего.
Трепануло Инночку где-то за две недели до прихода последнего письма. Мама, женщина с высшим образованием, в нормальной жизни чуждая всяким суевериям, тогда сказала: это тебе вещует. Надо было спросить, к худу или к добру, но ведь и спрашивать не понадобилось, правда? Вечером того же дня Сашка, обормот такой, сломал на тренировке руку, и она подумала: к худу, вот, сын руку сломал. А ведь, наверное, в этот самый миг за тысячу – или сколько там – километров до этой самой «горячей точки» другой мальчик, немногим старше Сашки, пожалуй, не менее дорогой ее сердцу, вскрикнул и упал, ухватившись рукой… За что ухватившись? Куда его ранили? Почему это отвратительное, цепляющееся за мысли слово «изувечили»? Что это значит с точки зрения явно малограмотного соседа по палате в военном госпитале подмосковного Крысьегнездовска?
Вещует… Она вспомнила, как рассмеялась на фразу матери: вещует! «Полноценной сексуальной жизнью жить надо!» – сказала Инночка тогда, а мать отчетливо поморщилась. А «вещувало» странно. И страшно.
Инночке приснилось, что она проснулась среди ночи. Вернее, это она потом поняла, что именно приснилось. А в тот момент все было абсолютно реальным – отблеск уличного фонаря на потолке, чуть сбившаяся штора, знакомый профиль книжной полки с дурацкими вазами с сухоцветами – мамина идея. Всем телом за спиной она ощущала присутствие: некто чудовищно сильный и грубый прижимал ее к себе, прижимал абсолютно недвусмысленно, бедром она чувствовала молнию на узких джинсах визитера и то, что жило своей отдельной жизнью прямо за молнией. Сказать, что Инночка ничего не понимала, – это не сказать ничего: насильник в ее собственной кровати?!
Напрягая все мышцы – ну, какие могут быть мышцы у женщины весом в сорок восемь килограммов? – она сопротивлялась бешено, неистово, как всегда сопротивлялась любому грубому давлению, не похожая на себя, обычно выдержанную, деликатную, если не сказать заторможенную… И когда силы уже почти покинули ее, она вдруг осознала себя сидящей на кровати – естественно, в одиночестве. Дыхание со свистом вырывалось из груди. Рядом – никого. Значит, приснилось. «Вещует!» – сказала мама.
«Так что имейте совесть, мамаша, приезжайте, заберите малого домой, дома он, может, и очухается…» – уткнулись глаза в очередную строчку письма.
Изувечен… Он потерял руку? Ногу? Ослеп? Нет уж, лучше руку… Господи, о чем она думает! Мужику, мальчику, собственно говоря, руку потерять! Идиотки кусок, тфу! Одна радость в жизни осталась – электричку подали на пути.
Инночка уселась у окна и стала опять вспоминать, вспоминать, вспоминать… С чего все началось? Как получилось, что она, симпатичная женщина, отличный профессионал, мать, будем надеяться, не плохая, и дочь уж точно не самая худшая, готова сейчас отдать если и не жизнь, то весь привычный уклад своей жизни – за одну добрую весть? Или даже хотя бы просто за не злую…
С чего все началось? Наверное, с того, как она злилась над незнамо какой по счету чашкой крепчайшего кофе…
Глава 2
Теперь придется искать новую работу. Как глупо, как глупо все! Дура старая, потянуло на подвиги…
Инна Алексеевна подняла глаза к зеркалу. Оттуда на нее смотрело милое, «кукольное», как говорила мама, личико. Нежная гладкая кожа, выразительные глаза, тонкий прямой нос… Несмотря на указанный в паспорте возраст – тридцать два года, – ни одной морщинки. Да что там, молодые коллеги всегда звали ее Инночкой, девчонкам и в голову не приходило, что изящная, маленькая и худенькая Инночка если не в матери, то уж в тетки им точно годится. Ее вообще все любили и уважали – за профессионализм и деликатность… До сегодняшнего вечера. Она заварила еще кофе и опять начала вспоминать – по кругу, по кругу, по кругу…
Профессиональный праздник в конторе любили. Тащили из дома самые изысканные закуски, почти все шили или покупали обновки, начальник, довольно молодой строгий вдовец, пьянки на рабочем месте не одобрявший, из года в год в праздник сам баловал подчиненных шампанским и конфетами. В этот раз сели за стол поздно, в шестом часу. Соседом Инночки оказался ее непосредственный подчиненный, двадцатитрехлетний Геннадий, высокий, тощий, угрюмый юноша, помешанный на компьютерах. Если бы она только могла предположить, чем это кончится! Она бы сказала, что болит голова, и улизнула бы домой. Или приняла бы приглашение бывшего мужа посетить модный ресторан. В конце концов, можно было бы, сплавив сыновей на танцульки, попьянствовать вдвоем с соседкой…
Но Инночка, туманно улыбаясь, сидела в конторе, потягивая вино. Народ во главе с начальником задорно скакал под какую-то эстраду, Полина Георгиевна, считавшая себя чем-то вроде мамки всем, кому не стукнуло пятьдесят, настраивала свой вокальный аппарат в могучей груди, готовясь начать с коронной «Степь да степь кругом». При первых же тактах медленной мелодии Джо Дассена Генка взял ее за руку и бесцветным голосом сообщил:
– Идем танцевать.
Вот так – не пригласил, не попросил, не сказал, а именно в известность поставил. Приказ номер шестьдесят два: ознакомьтесь и подпишите. Первая мысль, пришедшая ей в голову, когда она оказалась в его объятиях, была: господи, какой же он, оказывается, огромный! И как же осторожно он ее обнимает, как будто прячет под курткой букет цветов в непогоду. От колючего невзрачного свитера пахло сигаретами и еще чем-то неуловимым…
Вокруг нелепо толкались другие пары, когда Генка вдруг взял и поцеловал ее в губы настолько по-настоящему, что сердце Инночки на миг остановилось, а потом рухнуло в живот, продолжая биться там теплыми, сладкими ударами. Можно было, конечно, дать Генке пощечину или, оттолкнув, рассмеяться. Но ни того ни другого она не сделала – было что-то в его поцелуе… Что-то не только плотское…
Пока играла музыка, все делали вид, что ничего экстраординарного не происходит. Как только замолчал Дассен, кто-то начал задорно кричать, как на свадьбе: «Раз, два, три», но голос не поддержали, и он замолк.
Инночка и Генка вернулись к столу. На них смотрели удивленно, непонимающе, смущенно. Генка налил водки себе и Инночке, много, по полстакана.
– Я столько не проглочу… – пробормотала она.
– Пей. Глазеть перестанут, – все так же, без интонаций, прошептал Генка. Он тяжело дышал.
Водка ударила сначала в желудок, потом в голову. Генкина рука лежала на ее талии, постепенно привлекая ее все ближе к колючему свитеру, к густым темным кудрям, которые давно пора было подстричь. Полина Георгиевна наконец запела, все увлеченно подхватили на четыре голоса про ямщика и его печальную судьбу. Мягкие Генкины губы трогали Инночкины скулу, висок, шею, она чувствовала, как он дрожит.
– Пойдем покурим, – шепнул он.
Инночка почти не курила – так, под хорошее настроение и что-нибудь изысканное. Более того, она никогда не курила в конторе. Но какой-то безумный вихрь уже подхватил ее, и она, порывшись в сумочке в поисках «Ротманса», подчинилась Генкиной руке, увлекавшей ее в сторону темного коридора. Оказавшись вне пределов видимости коллег, они и не вспомнили про сигареты…
Потом было такси, безумные поцелуи на заднем сиденье, а в свою неухоженную однокомнатную квартиру Генка внес ее на руках, не зажигая света…
Когда все было кончено, он заснул, как ребенок, – мгновенно и так и не выпустив ее из объятий, как любимую мягкую игрушку. С трудом освободившись, она бесшумно оделась и ушла. И вот теперь сидела на кухне над уже незнамо какой по счету чашкой крепкого кофе. Что она натворила? Зачем пошла на поводу у мальчишки, который лишь на девять лет старше ее сына? Какими глазами будут смотреть на нее коллеги? А он? Зачем он это сделал, неужели он не понимает, что опозорил ее? А она тоже хороша! Если бы она не пошла «покурить» (ха-ха-ха три раза!) в коридор, все можно было бы списать на пьянку, мол, подурачились немного и разошлись. А еще эти следы на шее, что она завтра скажет маме, сыну? И за все это время он не сказал ей ни слова, ни единого слова с тех пор, как позвал ее курить.
Инночка всерьез обдумывала самоубийство, когда зазвонил телефон. Полпятого утра. Первая мысль: что-то случилось, какое-нибудь несчастье. Она схватила трубку:
– Да!
– Почему ты ушла? Адрес запомнила? Приезжай, я тебя жду, – произнес знакомый голос без интонаций.
Ирина Волчок
Уходя в армию, Генка был уверен, что для его любви к Инночке не может быть никаких препятствий. Ни то, что Инночка его начальник, ни то, что она намного старше, ни ее почти взрослый сын… И даже то, что она не ответила ни на одно его письмо, не вызывало в нем сомнений в том, что она его дождется.
Но с изуродованным лицом и беспалой рукой он не мог показаться ей на глаза.
А Инночка просто не заметила, что он изуродован… Любовь слепа. Слепа? Да ничего подобного. Любовь умеет видеть главное большую душу, большое сердце, большую ответную любовь.
Ирина Волчок
300 дней и вся оставшаяся жизнь
Глава 1
Ненавижу Москву, – привычно думала она. Причиной ненависти, пожалуй, было то, что ее мама называла «топографическим идиотизмом». Инна Лучинина – тридцати трех лет, русская, инициативный сотрудник, практически здоровая, да и вообще вполне нормальный человек, – была способна заблудиться на Курском вокзале. Да что там «была способна» – приезжая в столицу хотя бы раз в два года, она тут же, на вокзале, и переставала ориентироваться, блуждая среди ярких ларьков, лезущей в уши музыки, противных запахов общепита, бестолковых указателей, сонных, вздрюченных и сонно-вздрюченных пассажиров, злясь на себя все больше и почему-то не решаясь спросить дорогу до метро.
В метро тоже все страшно раздражало: эскалатор, который норовил откусить шпильки новеньких осенних полусапожек, реклама, соседи по движущейся лестнице, снова реклама…
Впрочем, сегодня она почти не замечала всего того, что обычно ей так не нравилось. Сегодня она думала, что едет «туда, не знаю куда», и даже если ей удастся без дополнительных приключений добраться до места назначения, что и как там делать или не делать, тоже непонятно.
Красивое название подмосковного городка, где располагался военный госпиталь, Инночка для себя сразу злобно и навсегда переделала в Крысьегнездовск. Этот Крысьегнездовск давно уже считался частью мегаполиса, но ехать до него надо было на электричке, причем с Павелецкого вокзала, на котором она ни разу не была.
«С моим счастьем – только по грибы, да и те разбегутся!» – непонятно почему вспомнились слова героя из любимой книги ее сына. Впрочем, «почему» – стало понятно буквально через десять минут: в расписании движения чертовых электричек на чертов Крысьегнездовск образовалось какое-то абсурдное «окно» в полтора часа. Следовательно, прибудет она в госпиталь – это если повезет с такси – не раньше двух часов. Будут ли еще в это время на месте врачи? Потому что встретиться с ним вот так, сразу, глаза в глаза, после того, что наговорила его мамаша, Инночка просто физически не могла. Как себя вести? Бодриться, балагурить? Этого она никогда не умела… Кричать, ругаться, возмущаться: почему не сообщил, не написал, не позвонил, почему такие новости она узнает через почти два месяца после событий? А собственно, почему должно быть иначе? Ведь она-то сама не написала ему ни единой строчки. Только эти ее дурацкие записи в дурацком дневнике… Но он-то о них и подозревать не мог, откуда бы?
А что, если она начнет плакать, просто реветь белугой, как профессиональная плакальщица на деревенских похоронах… У нее ведь слезы всегда были близко…
Ожидая загулявшую где-то электричку, Инночка с каким-то мучительным старанием вспоминала, как в офисе появилась… да баба, назвать это существо женщиной язык не поворачивался: ни шага в сторону от имиджа привокзальной (таких даже на вокзал не пускают) престарелой шлюхи. При всех она начала орать, что из-за «некоторых потаскух хорошие мальчики попадают на войну, любимого сыночку, кровиночку, изувечили, а она тут сидит вся из себя в шоколаде…»
В первые минуты она вообще ничего не поняла. Потом поняла и начала плакать. Сначала плакала, потом рыдала, а потом кто-то, кажется, Женька, влепил – этой, как ее? – Раисе Петровне пощечину – чтобы заткнулась, и ей, Инночке, тоже – чтобы успокоилась. Рыдать-то она перестала, но в голове по-прежнему билось: изувечили!
– Что значит – изувечили? – спросила она притихшую бабу.
Та сказала, что не знает, что письмо ей не сын прислал (от него дождешься, как же! Раз в месяц: со мной все в порядке – и все!), а сосед сына по палате в госпитале где-то под Москвой.
– Где письмо? – спросила Инночка. – Дайте мне письмо!
Баба швырнула ей в лицо порванный чуть ли не пополам конверт, сказала нечто такое, из чего Инночка и половины не поняла, а охранник Олежка восхищенно присвистнул. Раиса – как ее? – Петровна, хлопнув изо всех сил дверью, ушла. А Инночка осталась. С письмом. Вот оно, мятое, в сумочке.
Инночка щелкнула замочком кожаной сумочки, взяла в руки конверт. Вспомнила, как мучительно разбирала смазанный почтовый штемпель, чтобы выяснить, в какой именно подмосковный госпиталь ей надо ехать. И ехать сегодня же, ночным, чтобы утром быть уже в Москве, а днем (сутки – это много или мало?) увидеть его. Или нет – сначала поговорить с врачом.
«Здравствуйте, мамаша Геннадия! – начиналось письмо. – Не пишу вам „уважаемая“, потому что не уважаю. Ваш сын второй месяц гниет на больничной кровати, а от вас ни слуху, ни духу. Тут ко всем матеря поприезжали, невесты, а он один. Отвернется к стене и лежит. Почти и не разговаривает с нами, и гостинцы не берет, только сигареты».
Да уж, разговорчивостью он никогда не отличался. То ли дело письма, которых уже целый ящик стола у нее дома. И ведь не екнуло ничего у дуры, когда очередное письмо в среду – да, именно среда была – не пришло. И в четверг, и в пятницу, и дальше. Чуть ли не перекрестилась, почувствовав облегчение: все, разрубился гордиев узел наконец, ну какая, к черту, любовь… Обидно, конечно, было. Ведь сама вроде уже поняла: не просто так, не просто так. И все равно вздохнула с облегчением – ну, не могло быть никакого будущего.
Трепануло Инночку где-то за две недели до прихода последнего письма. Мама, женщина с высшим образованием, в нормальной жизни чуждая всяким суевериям, тогда сказала: это тебе вещует. Надо было спросить, к худу или к добру, но ведь и спрашивать не понадобилось, правда? Вечером того же дня Сашка, обормот такой, сломал на тренировке руку, и она подумала: к худу, вот, сын руку сломал. А ведь, наверное, в этот самый миг за тысячу – или сколько там – километров до этой самой «горячей точки» другой мальчик, немногим старше Сашки, пожалуй, не менее дорогой ее сердцу, вскрикнул и упал, ухватившись рукой… За что ухватившись? Куда его ранили? Почему это отвратительное, цепляющееся за мысли слово «изувечили»? Что это значит с точки зрения явно малограмотного соседа по палате в военном госпитале подмосковного Крысьегнездовска?
Вещует… Она вспомнила, как рассмеялась на фразу матери: вещует! «Полноценной сексуальной жизнью жить надо!» – сказала Инночка тогда, а мать отчетливо поморщилась. А «вещувало» странно. И страшно.
Инночке приснилось, что она проснулась среди ночи. Вернее, это она потом поняла, что именно приснилось. А в тот момент все было абсолютно реальным – отблеск уличного фонаря на потолке, чуть сбившаяся штора, знакомый профиль книжной полки с дурацкими вазами с сухоцветами – мамина идея. Всем телом за спиной она ощущала присутствие: некто чудовищно сильный и грубый прижимал ее к себе, прижимал абсолютно недвусмысленно, бедром она чувствовала молнию на узких джинсах визитера и то, что жило своей отдельной жизнью прямо за молнией. Сказать, что Инночка ничего не понимала, – это не сказать ничего: насильник в ее собственной кровати?!
Напрягая все мышцы – ну, какие могут быть мышцы у женщины весом в сорок восемь килограммов? – она сопротивлялась бешено, неистово, как всегда сопротивлялась любому грубому давлению, не похожая на себя, обычно выдержанную, деликатную, если не сказать заторможенную… И когда силы уже почти покинули ее, она вдруг осознала себя сидящей на кровати – естественно, в одиночестве. Дыхание со свистом вырывалось из груди. Рядом – никого. Значит, приснилось. «Вещует!» – сказала мама.
«Так что имейте совесть, мамаша, приезжайте, заберите малого домой, дома он, может, и очухается…» – уткнулись глаза в очередную строчку письма.
Изувечен… Он потерял руку? Ногу? Ослеп? Нет уж, лучше руку… Господи, о чем она думает! Мужику, мальчику, собственно говоря, руку потерять! Идиотки кусок, тфу! Одна радость в жизни осталась – электричку подали на пути.
Инночка уселась у окна и стала опять вспоминать, вспоминать, вспоминать… С чего все началось? Как получилось, что она, симпатичная женщина, отличный профессионал, мать, будем надеяться, не плохая, и дочь уж точно не самая худшая, готова сейчас отдать если и не жизнь, то весь привычный уклад своей жизни – за одну добрую весть? Или даже хотя бы просто за не злую…
С чего все началось? Наверное, с того, как она злилась над незнамо какой по счету чашкой крепчайшего кофе…
Глава 2
Теперь придется искать новую работу. Как глупо, как глупо все! Дура старая, потянуло на подвиги…
Инна Алексеевна подняла глаза к зеркалу. Оттуда на нее смотрело милое, «кукольное», как говорила мама, личико. Нежная гладкая кожа, выразительные глаза, тонкий прямой нос… Несмотря на указанный в паспорте возраст – тридцать два года, – ни одной морщинки. Да что там, молодые коллеги всегда звали ее Инночкой, девчонкам и в голову не приходило, что изящная, маленькая и худенькая Инночка если не в матери, то уж в тетки им точно годится. Ее вообще все любили и уважали – за профессионализм и деликатность… До сегодняшнего вечера. Она заварила еще кофе и опять начала вспоминать – по кругу, по кругу, по кругу…
Профессиональный праздник в конторе любили. Тащили из дома самые изысканные закуски, почти все шили или покупали обновки, начальник, довольно молодой строгий вдовец, пьянки на рабочем месте не одобрявший, из года в год в праздник сам баловал подчиненных шампанским и конфетами. В этот раз сели за стол поздно, в шестом часу. Соседом Инночки оказался ее непосредственный подчиненный, двадцатитрехлетний Геннадий, высокий, тощий, угрюмый юноша, помешанный на компьютерах. Если бы она только могла предположить, чем это кончится! Она бы сказала, что болит голова, и улизнула бы домой. Или приняла бы приглашение бывшего мужа посетить модный ресторан. В конце концов, можно было бы, сплавив сыновей на танцульки, попьянствовать вдвоем с соседкой…
Но Инночка, туманно улыбаясь, сидела в конторе, потягивая вино. Народ во главе с начальником задорно скакал под какую-то эстраду, Полина Георгиевна, считавшая себя чем-то вроде мамки всем, кому не стукнуло пятьдесят, настраивала свой вокальный аппарат в могучей груди, готовясь начать с коронной «Степь да степь кругом». При первых же тактах медленной мелодии Джо Дассена Генка взял ее за руку и бесцветным голосом сообщил:
– Идем танцевать.
Вот так – не пригласил, не попросил, не сказал, а именно в известность поставил. Приказ номер шестьдесят два: ознакомьтесь и подпишите. Первая мысль, пришедшая ей в голову, когда она оказалась в его объятиях, была: господи, какой же он, оказывается, огромный! И как же осторожно он ее обнимает, как будто прячет под курткой букет цветов в непогоду. От колючего невзрачного свитера пахло сигаретами и еще чем-то неуловимым…
Вокруг нелепо толкались другие пары, когда Генка вдруг взял и поцеловал ее в губы настолько по-настоящему, что сердце Инночки на миг остановилось, а потом рухнуло в живот, продолжая биться там теплыми, сладкими ударами. Можно было, конечно, дать Генке пощечину или, оттолкнув, рассмеяться. Но ни того ни другого она не сделала – было что-то в его поцелуе… Что-то не только плотское…
Пока играла музыка, все делали вид, что ничего экстраординарного не происходит. Как только замолчал Дассен, кто-то начал задорно кричать, как на свадьбе: «Раз, два, три», но голос не поддержали, и он замолк.
Инночка и Генка вернулись к столу. На них смотрели удивленно, непонимающе, смущенно. Генка налил водки себе и Инночке, много, по полстакана.
– Я столько не проглочу… – пробормотала она.
– Пей. Глазеть перестанут, – все так же, без интонаций, прошептал Генка. Он тяжело дышал.
Водка ударила сначала в желудок, потом в голову. Генкина рука лежала на ее талии, постепенно привлекая ее все ближе к колючему свитеру, к густым темным кудрям, которые давно пора было подстричь. Полина Георгиевна наконец запела, все увлеченно подхватили на четыре голоса про ямщика и его печальную судьбу. Мягкие Генкины губы трогали Инночкины скулу, висок, шею, она чувствовала, как он дрожит.
– Пойдем покурим, – шепнул он.
Инночка почти не курила – так, под хорошее настроение и что-нибудь изысканное. Более того, она никогда не курила в конторе. Но какой-то безумный вихрь уже подхватил ее, и она, порывшись в сумочке в поисках «Ротманса», подчинилась Генкиной руке, увлекавшей ее в сторону темного коридора. Оказавшись вне пределов видимости коллег, они и не вспомнили про сигареты…
Потом было такси, безумные поцелуи на заднем сиденье, а в свою неухоженную однокомнатную квартиру Генка внес ее на руках, не зажигая света…
Когда все было кончено, он заснул, как ребенок, – мгновенно и так и не выпустив ее из объятий, как любимую мягкую игрушку. С трудом освободившись, она бесшумно оделась и ушла. И вот теперь сидела на кухне над уже незнамо какой по счету чашкой крепкого кофе. Что она натворила? Зачем пошла на поводу у мальчишки, который лишь на девять лет старше ее сына? Какими глазами будут смотреть на нее коллеги? А он? Зачем он это сделал, неужели он не понимает, что опозорил ее? А она тоже хороша! Если бы она не пошла «покурить» (ха-ха-ха три раза!) в коридор, все можно было бы списать на пьянку, мол, подурачились немного и разошлись. А еще эти следы на шее, что она завтра скажет маме, сыну? И за все это время он не сказал ей ни слова, ни единого слова с тех пор, как позвал ее курить.
Инночка всерьез обдумывала самоубийство, когда зазвонил телефон. Полпятого утра. Первая мысль: что-то случилось, какое-нибудь несчастье. Она схватила трубку:
– Да!
– Почему ты ушла? Адрес запомнила? Приезжай, я тебя жду, – произнес знакомый голос без интонаций.