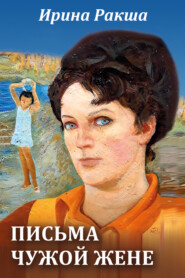По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Золотые опилки
Автор
Жанр
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А шофёр тем временем вышел и, сев на ступеньку в открытых дверях машины, стал наблюдать за ней. Летний день сиял солнцем и безмятежностью, в речке искрилась вода. А молодая красивая женщина рвала среди зелени незабудки.
Скоро, насобирав букетик, она легко поднялась к машине.
– Красиво, правда?.. – На мгновенье уткнулась лицом в голубую ароматную свежесть. – Ну что, поехали? Я готова…
Но человек не двигался. Он сидел, уткнув лицо в ладони, и сквозь тёмные, жёсткие пальцы его жилистых рук сочились слезы.
– Господи, что с вами? – испугалась мама. – Что случилось?.. – Присела перед ним на корточки. – Может, вам чем-то помочь?
Но шофёр, еле сдерживая рыданья, не отвечал.
– Вам плохо?.. Может, вызвать врача?..
Но он тотчас в испуге вскинул лицо – мокрое, неузнаваемое, искажённое какой-то мукой:
– Нет-нет!.. Ты что?! Не надо никого вызывать… – И, торопясь, тихо забормотал: – Я ведь, понимаешь, стрелок… Стрелок я. Понимаешь?.. Сутки вот тут за баранкой, а других – расстреливаю… – Давясь слезами, он утирал твёрдые на вид щёки. – Всю смену людей расстреливаю… Работа такая… Таких вот, как ты… Разных… А у меня в деревне жена беременная, дети.
Он отвернулся, замер. Кругом было солнечно, лучезарно и так тихо, что далеко где-то слышались детский смех, гудки редких машин. Мама не знала, что предпринять, что сказать, что делать. И тогда шофёр резко поднялся, с силой провёл ладонями по седым волосам, словно стараясь что-то стереть из памяти, и, обогнув твёрдым шагом машину, сел за руль.
Вечером потрясённая мама с трудом дождалась отца с работы. Букет незабудок стоял на круглом столе под абажуром. Наглухо закрыв окна и двери, она по секрету, шёпотом всё рассказала мужу. Но отец отреагировал на удивление странно. Он неожиданно рассмеялся, обнял, поцеловал жену в испуганные глаза и сказал, что это глупости, что она всё не так поняла. Или это просто абсурд, бред больного человека.
И принялся за ужин. А перед сном почему-то взял с жены слово молчать о случившемся, строго-настрого молчать и даже накрепко всё забыть…
Больше мама того шофёра не видела… Никогда.
Однако ничего не забыла.
Жили мы тогда, как я уже сказала, на Третьей Останкинской (теперь это улица Королёва) в двухэтажном бараке (их было шесть, седьмой сгорел в войну), с водой в дворовой колонке. Воду носили домой по-деревенски, в вёдрах, а кое-кто даже на коромысле. А ещё – с жутко-вонючей общей уборной на улице (в три плюс три очка: М и Ж). Раз в месяц, когда яма переполнялась, приезжала цистерна-трёхтонка, гудящая «говночистка» со шлангом в гармошку. Тарахтя мотором, она долго очищала яму. А потом пару дней окна в округе от вони открыть было невозможно.
Таких временных типовых бараков было множество понастроено перед войной, на окраинах городов. Наш шестой корпус был отдан семьям специалистов ВСХВ. Разумеется, временно, до скорого переселения сотрудников в центр Москвы, в приличные квартиры. Но этого так и не случилось…
Началась война, отец ушёл танкистом на фронт. Воевал в Сталинграде, Померании, Польше. Вернулся живым, орденоносцем, не раненым, хотя обожжённым: в танке горел, но спасся. Потом (выставка закрылась, нечего было уже выставлять) папа работал в сельхозминистерстве инспектором по Сибири.
В 1954 году родители мои разошлись. Отец уехал на Алтай строить целинный совхоз. А наши уже несколько облупившиеся, засыпные бараки простояли ещё лет тридцать. Верно сказано: нет ничего более постоянного, чем временное. Там, в Останкино, моя яркая, «музыкальная» мама и прожила – как бы временно – всю свою жизнь. Там и состарилась, увяла, так и не осуществив себя (хотя талантливо писала и музыку, и стихи), так и не пригодившись своему немилосердному, жестокому времени.
Сейчас на месте тех наших бараков высятся тяжёлые 30-этажные монстры, гигантские, гнетущие глаз дома-муравейники. И под стать им стоит исполинской иглой напротив, возле дворца Шереметьева, Останкинская телебашня. Кстати, строилась она в 50-е годы у меня на глазах, за окнами, в поле – на месте нашего огорода. Освобождая место для её возведения, рядом вырубили прекрасную дубовую рощу (которую некогда любил писать великий художник Исаак Левитан), так называемый Дубовый просек.
Сейчас нет ни этого просека, ни домов тех, ни речки, ни рынка. Ничего не осталось. И только, перемогаясь, дышат еще на пустыре деревья, когда-то посаженные рядком мной и мамой под нашими окнами: липы, ивы и тополя. Они разрослись и уже постарели, но пока узнаваемы. Так приятно, подъехав порой (самой за рулём) и подойдя к ним по заросшему пустырю, провести ладонями по их жёсткой, морщинистой, тёплой коре, по их рваным, глубоким ранам. «Поклон вам, мои родные сверстнички… Ну, как жили вы тут без меня?.. Что видели в эти десятилетия?..»
Люблю постоять неподвижно, отрешённо от мира, от городской суеты. Приобнять, коснуться щекой их древесного тела, которое некогда тонкой веточкой воткнули в землю мои детские руки. Внутри их ствола, по их жилам, ещё течёт вверх и вниз медленная, живая влага – кровь земли. Сколько же вы, горемычные, всего тут наслушались-насмотрелись?!.
Если б деревьям, лесам была дана Богом глотка, жуткий стон бы стоял по всей нашей планете…
И эти мои деревья изранены, как на войне, – людской злобой и небрежением. Хотя для дерева полвека жизни разве же срок?.. Вон в Палестине я касалась руками олив (живы ещё!), под которыми молился Иисус Христос. И дуб Мамврийский ещё дышит, живёт, ещё помнит Святую Троицу!.. Могли бы и эти ещё процветать. Но нет… Суждено им было, бедным, родиться в Москве. А тут – как на войне, год шёл за три. (И для деревьев тоже.)
Однажды я подумала: что, если в далёком будущем высоколобые наши потомки, мудрые археологи задумают изучать исчезнувшую цивилизацию середины ХХ века? Станут копать в Останкино – как, скажем, в Манеже копают либо в Кремле?.. Или, к примеру, у египетских пирамид? Или – как Шлиман в Греции раскопал золото Трои?..
Что найдут они в толще останкинской земли? На что наткнутся, что расскажут им эти останки-находки?.. Ну, скажем, керосинки наши расплющенные, примусы и керогазы (располагаю по порядку их появленья) или же шайки с ручками, которые мы брали в общие бани?.. Или сдавленные рёбра жёлтого абажура, который так уютно когда-то светил над круглым столом?.. Или, к примеру, прищепки для стираных простыней, сушившихся на наших чердаках, под вечной угрозою исчезновения в руках воров?..
А вдруг найдут полуистлевшую фронтовую кирзовую сумку отца моего, привезённую вместе с офицерским планшетом с войны?.. Ах, как я ею гордилась! На зависть подружкам вместо портфеля ходила с ней в мою школу № 271. Найдут остатки истерзанных нами в игре трофейных противогазов… Найдут кругленькие толстые увеличительные стёкла (танковые визиры), через которые мы, ребята, солнечным зайчиком выжигали на досках заборов свои имена. Найдут помятые немецкие губные гармошки из Мюнхена… Сколько всего трофейного!.. Можно подумать, что линия фронта проходила прямо через Останкино. (Вообще-то она и правда прошла через детские наши сердца.)
А ещё?.. А ещё наши потомки найдут алюминиевые ложки-самоделки, красавицы-ложки с черенками из разноцветных пластмассовых вставок – нехитрое солдатское рукоделье в тылу и на фронте. Найдут помятые кружки из алюминия, уже забитые землёй с добрыми дождевыми розовыми червяками. А ведь какой праздник был, когда только что появилась у нас эта алюминиевая посуда – кастрюльки, кружки, бидоны! А теперь её уже называют «вредной»…
А может, ещё они наткнутся и на мои ржавые коньки-снегурки с закрученными, как лебединые шеи, носами? Очень удобно эти снегурки прикручивались с помощью палочки и верёвки к подшитым валенкам.
Господи!.. Но ведь наткнутся, конечно, и на осколки фугасных бомб и зажигалок! Они тоже лежат в этой земле. Куда же им деться?! Ими осенью 41-го года самолёты фашистов нещадно бомбили Москву. И конечно, выставку – ВСХВ, её красавцы-павильоны. А заодно и соседний геометрический ряд наших жилых бараков.
Да мало ли что ещё могут найти тут потомки?! Дай им, Господи, старания, желания и любопытства. И чтоб были они лучше нас – светлее, добрее и чище.
…Вот и ещё видение. Отчётливо помню гул, низкий сплошной гул: это, невидимые в чёрном небе, идут на город бомбардировщики. И на фоне сплошного этого звука – хлопки взрывов-разрывов и крики, жуткие женские вопли. За стеной стук дверей, топот ног, убегающих по коридору. Но мама почему-то оцепенела: стоит напротив окна и, держа меня на руках, крепко прижимает к груди.
А я с интересом глазею на всё и совершенно спокойна, поскольку всем телом ощущаю тепло и надёжность её мягкой груди. Перед глазами жарко-красные оконные стёкла, они словно плавятся. Напротив – седьмой, последний в нашем ряду барак. Он ярко горит, пылает в ночи большим весёлым костром. А в чёрном небе, как ёлочные фонари в праздник, висят осветительные ракеты, выпущенные фашистами. Они реют, как цветы, тут и там, на парашютах из красочного шёлка: зелёные, белые, красные. Освещают лётчикам местность. Помогают немцу бомбить нас.
После таких бомбёжек разноцветные несгоревшие лоскуты парашютного шёлка дети и женщины соберут по дворам, крышам, деревьям и улицам. И будут шить себе что-нибудь из одежды: летнее, прочное. Такой зелёный лоскут до сих пор хранится где-то и у меня. На память. Жуткая память войны.
А в горящем доме напротив, спасая хоть что-то, хозяйки выбрасывали из оконных проёмов стулья, подушки, узлы. И те, падая вниз, на лету пылали, будто в замедленной съёмке. Потом (как в теневом театре) от дома к речке горящим факелом побежал человек. Он спасался. Но, не добежав до воды, упал вдали и остался лежать, догорая на земле костром…
Вообще бомбёжки в Москве в первую военную осень были часты. Аэростаты в небе и наши советские «ястребки» были почти беспомощны, не могли сдержать мощной немецкой армады. (Правда, на Третьей Останкинской сгорел только седьмой барак.) И мальчишки с плебейских наших окраин, пользуясь гулом и паникой, воровали тем временем яблоки у соседей в частных садах. Набивали за пазуху полные рубашки.
Бомбили немцы и центр Москвы. Обрушился и сгорел, погребя под собой жильцов, старый дом вблизи станции метро «Библиотека имени Ленина», возле Пашкова дома. И бабушка всегда с ужасом вспоминала, что там долго-долго, пока неделями разгребали, разбирали завалы, стоял удушливый трупный дух, смешанный с запахом горелого мяса…
– А нам повезло, – говорила мне бабушка. – Они целили всё на Кремль. А бомбы на Солянке рвались, на Яузе и у Курского. И у нас во дворе только одна упала. Мы в тот раз в бомбоубежище не пошли: надоело уж бегать. А зря. Нас оконными стеклами сильно порезало. Но, слава Богу, живы остались…
Не знаю, будут ли интересны когда-нибудь археологам такие находки?.. Но в земле покопаться им стоит. Уж если мой муж, художник, начиная работу над триптихом «Поле Куликово» и съездив на Дон и Непрядву, привез домой наконечник татарской стрелы и 600-летний осколок копья, то уж середина ХХ века, царившая словно вчера, одарить может щедро. Только копни?!..
Сегодня со словом «Останкино» чаще ассоциируют лишь телецентр и телебашню. А ведь это былинный, сказочный край. В нём столько всего… вернее, в нём – ВСЁ. Единение всех трёх начал: вчера, сегодня и завтра… Впрочем, об этом надо отдельно.
А на том поле, где сейчас стоит телебашня, в войну и даже несколько позже, была расположена часть ПВО (противовоздушной обороны). Была укатанная, как бетон, площадка для аэростатов, пузатых и добрых, по-живому с колышущимися мягкими «животами». Так что наткнуться в земле на остатки креплений, державших поднебесных этих слонов, – раз плюнуть. С ликвидацией этого пункта после войны укатанную площадку отдали под огороды жителям ближних домов (об этом я написала рассказ «Останкинские дубки»).
Ах, до каких же кровавых мозолей мы с мамой надсаживали ладони, чтобы превратить камень в землю, чтобы вскопать под картошку, спасавшую в голод, выделенные нам шесть аэростатных соток. Мы копали эту землю до пота и сухости во рту – на виду наших жёлтых бараков, стоящих среди зелени, как оазис, и издали глядящих на нас. Мама с натруженными руками (а какие были красивые!) не могла подойти к пианино и тронуть клавиши, перенося частные уроки музыки, которыми подрабатывала, на другие, более поздние дни. Чтобы руки «успели прийти в порядок».
Возле поля, в тёмной глади останкинского пруда, картинно отражались и дивный Божий храм Покрова, и Шереметьевская усадьба – белоколонный дворец со львами (на которых я маленькой обожала забираться верхом) и с вечно забитыми, слепыми окнами. Все мои юные радости: катанье в парке на санках с потешной горы, плаванье на пруду в лодках, кружение по льду на зимнем катке происходили именно здесь, были связаны с этим местом. С этим храмом, дворцом и прудом, на берегу которого располагался трамвайный круг, то есть конечная остановка. Разворот 17-го и 39-го – в обратный путь.
После войны тут было опасное, «воровское» место. Как и ещё одно – у северных ворот ВДНХ, при входе в постамент фигуры Мухиной «Рабочий и колхозница». Если верить местным, в пьедестале скульптуры бандиты и жулики (якобы банда «Чёрная кошка») имели базу-ночёвку, место сборища, «малину». И возможно, это была правда, поскольку в округе частенько грабили, насиловали и убивали. И не только тут, а по всей Москве.
В общем, Останкино (Дубовый наш просек, Кашёнкин Луг, Хованская улица и пр.) воспитывало меня как могло, лепило мою душеньку. Сейчас пишу некое сочинение, рассказ с названьем «Рио-Рита из Останкино». Надеюсь, успею довести до ума…
Кстати, люблю это слово – «сочинение». Ещё прекраснее – «сочинять». В наш железобетонный век (был век золотой, потом – серебряный, а наш называю железобетонным) авторы, не шибко владеющие пером, умышленно извратили понятие сочинительства. Умалили его, унизили, низвели до плинтуса. Появился даже термин такой, почти новый жанр, даже секцию в Союзе писателей образовали: «документально-публицистическая проза». Мол, основа не сочинительство, а именно документ. Это главное.
И стали в СМИ понятие это усиленно раздувать. А почему? А потому, что сочинять да ещё талантливо, умеют редкие, а вот документально писать может – пожалуйста! – любой грамотный. И пошли, и пошли издаваться примитивные заказные книжки кого угодно и о чём угодно: об ударных сиюминутных стройках-перестройках, о космосе, бесчисленные мемуары военачальников и генсеков. Вот, дескать, она, Правда жизни, настоящая литература. Та, что опирается на документ, на факт. А остальное ваше придуманное художество – это всё сочинительство. То есть лукаво поставили всё с ног на голову!.. Поскольку истинный-то художник – это и есть Сочинитель.
И начинается художник-прозаик именно с сочинения. Есть правда жизни, а есть правда искусства. И сочинитель бесценен, поскольку своим талантом умеет превратить правду жизни в правду искусства.
* * *
Недавно пришла ко мне гостья, кокетливая такая «душечка» – постаревшая опереточная певица. Но сердечная, тёплая женщина. Она уже на пенсии, и потому обнищала. Любит ходить по гостям, как и другие мои подруги – бедные поэтессы и актрисы.
Вот за чаем певица и говорит мне загадочно – развлечь хотела: