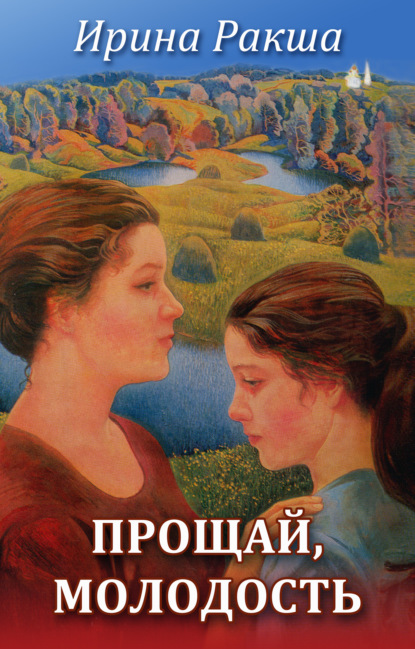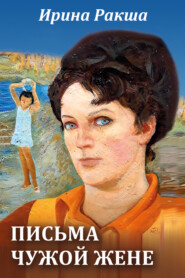По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прощай, молодость
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А его величество государя нашего Петра они потом с князем Меншиковым обманывали, приворотным зельем его обвели, – продолжал он. – На ту пору не было ни солдата, ни генерала, кто б не знал этого.
А «Катеринушка» действительно Петра словно злым кореньем обвела: увидев её однажды, он не мог забыть её тонкого лица, пышнотелых форм, застенчиво-лукавой полуулыбки. Ещё в 1708 году хоть и шуткой, Пётр выразил желание видеть возле себя «необъявленную» пока подругу. «Гораздо без вас скучаю, – писал он ей из Вильно, – а потому что ошить и обмыть мя некому…» Забывая сына-первенца, решительно изгнав из памяти образ несчастной первой своей супруги Евдокии Лопухиной, а за ней и первой фаворитки Анны Монс, Пётр как зеницу ока хранил вторую, более счастливую, избранницу. Даже в разгар своей борьбы с Карлом, полагая жизнь свою в опасности, государь помнил о любезной сердцу фаворитке и назначил послать ей три тысячи рублей – сумму для того времени весьма значительную.
Впрочем, любовь выражалась не только в посылках денег и бутылок с венгерским, до которых та всю жизнь была «зело охоча». Любовь выказывалась в постоянных заботах государя о любимой женщине.
Суровый деспот, человек с железным характером, способный смотреть, как родного сына истязают на дыбе, в своих отношениях к Екатерине он был неузнаваем: письмо за письмом, одно нежнее другого, посылал ей. И каждое – полное любви и заботы.
Не смущало Петра и низкое её происхождение. Марта Самуиловна Скавронская – таково её настоящее имя – лишь после крещения и принятия православия (по настоянию Петра) взяла имя Екатерина Алексеевна. Она была приёмной дочерью протестантского пастора Глюка, который жил в Ливонии, в городе Мариенбурге. К тому времени, когда русские войска под предводительством графа Шереметева принялись теснить шведов и подступили к Мариенбургу (а вскоре взяли в плен его жителей), Марта Самуиловна была уже замужем за блестящим драгуном Иоганном, который вместе со своим отрядом, охранявшим город, бежал из него при приближении русских.
Хорошенькую, пышнотелую Марту как пленницу, как военную добычу взяли в услужение к русскому главнокомандующему. Однако у Шереметева пленницу увидел Меншиков и склонил фельдмаршала уступить ему красавицу. И вскоре «Алексашка, государев любимец» страстно привязался к ней. Да и Марта ответила ему искренней любовью. Было! Было в ней нечто такое, что заставляло кружиться мужские головы. Её характер был взрывчатой смесью нежной, томной женственности и мужской резкости и отваги. Обворожительная, ласковая и кроткая, она не могла не привлечь к себе сердце Меншикова.
В один из дней, будучи в гостях у своего фаворита, Пётр неожиданно заметил красавицу, что прислуживала за столом и которой Алексашка очень гордился. Высказав вдруг пожелание заночевать у Меншикова, Пётр после ужина категорично велел Марте посветить себе в спальне. Меншиков вынужден был покорно склонить голову в знак согласия. Утром, едва Пётр уехал, из спальни медленно вышла Марта. Но уже другая Марта: крутая, сильная, резкая – и тут же высказала Меншикову, как намерена поступать в дальнейшем.
А государь вскоре вновь объявился у Меншикова. «Где же Марта?» – сухо спросил он, не увидев служанки, и по его голосу царский любимец понял: государь приехал повидаться вовсе не с ним. Явилась Марта. Пётр оживился. Пошли смешки, шутки, как и намедни. Но хитрая Марта была задумчива, сдержанна… Смолк и Пётр, словно заворожённый склонившись к тарелке. Весёлая беседа стихла.
В конце ужина она по обязанности поднесла ему рюмку водки на подносе. Пётр поднял взгляд и встретил её глаза, полные зовущих горестных слёз. Пётр быстро встал, опрокинул водку и, отведя взор, резко сказал Алексашке: «Я увожу её с собой…»
Лишь в 1710 году, когда она уже родила Петру двух дочерей, ей было дано звание фрейлины. Однако близкие к государю подмечали: Пётр, вообще не терпевший женщин, вмешивающихся в «мужские» дела, напротив, бывал доволен, когда в деловой разговор вступала Екатерина. Как свидетельствовали близкие к Петру люди, простая и разумная логика собеседницы не раз выводила их из лабиринта придворной софистики, бросала новый свет на многие вопросы.
В тесном кружке приближённых её уже называли не иначе как «государыня». И вот в 1711 году Пётр решил узаконить давние отношения – жениться на ней (при немногих свидетелях) – после одного значительного события. В Прутском походе русские войска попали в плен. И, согласно свидетельству самого Петра, лишь благодаря сметливым подсказкам Екатерины военачальники выпутались из тяжёлой ситуации. Её значимость в глазах общества как заступницы Русского государства сильно возросла. Теперь Пётр стал неразлучен с Екатериной. Повсюду возил с собой и любил окружать её роскошью. Наряды, диадемы, драгоценные каменья на пышной груди. И вся она, крупная, пышная, казалось, была создана для этой роскоши. Хотя, заметим, это не помешало ей родить Петру одиннадцать детей, из которых выжили лишь две дочери: Анна и Елизавета. Елизавете в будущем предстояло стать русской царицей.
Постепенно Екатерина образовала при себе двор, поражавший даже иностранцев отменным вкусом и изяществом. Своим девочкам Екатерина Алексеевна дала прекрасное европейское образование. Хотя сама, даже став царицей, не желала учиться читать и писать. Говорила, что главная её забота теперь – «выучиться делать всё угодное Петру, и этого с неё достаточно».
Однако Меншиков, давняя её любовь, сохранил негласное влияние на Екатерину и после того, как она стала царицей. Она частенько спасала царского любимца от заслуженных наказаний. Как верно подметил историк прошлого, «алчность князя Ижорского не раз выводила Петра из терпения. Но пред царём за князя всегда был верный ходатай. Пётр называл Екатерину и Меншикова «детьми своего сердца», и каждый из «детей» старался, чтоб царская милость не обходила другого». Впрочем, Петра мало интересовали тонкости отношений жены и Меншикова. Практически он во всём доверял супруге. Даже решился короновать её. Это была его высочайшая воля. Воля человека, страстно влюблённого всей мощью души и тела. Передавая Екатерине верховную власть, Пётр перед лицом всей России как бы признавался в единственной своей слабости – бесконечной любви к этой женщине. Однако в конце 1724 года Екатерина преподнесла ему некий страшный «сюрприз».
Пётр старел. А она была ещё молода, к тому же с «большим интимным прошлым». Он часто надолго отлучался, и она как бы невзначай остановила свой женский взор на изящном послушном французе – камергере Монсе.
Пётр, узнав из доноса об измене жены, был взбешён. Екатерина уже объявлена Императрицей Всероссийской, пути назад нет. Доносителя «вычислили» и взяли в тайную канцелярию. Под пыткой тот оговорил и нескольких других лиц, «интимно близких» царице. Петру раскрылась вся ошеломляющая подоплёка цепи измен. И не только с Монсом. Надо заметить, что следствие велось в тайне. В строжайшей тайне государыня и Монс ничего не подозревали и продолжали отношения. 9 ноября 1724 года прямо со следствия Пётр отправился во дворец. Он поужинал, мило поболтал с супругой. Побеседовал невзначай и с приглашённым Монсом. На камергере лежала масса обязанностей. О них и говорили. Ничто не выдавало внутреннего напряжения Петра, не предвещало грозы. «Который час?» – вдруг обратился он к супруге. Та посмотрела на свои часы – подарок Петра из Дрездена: «Девять часов». И тут Пётр вдруг резко вырвал из её рук часы, покрутил стрелку и грозно объявил: «Ошибаетесь. Двенадцать часов. И всем пора идти спать». Все тотчас в смятении разошлись. Через несколько минут Монс был арестован у себя в комнате. На следующий день поутру его ввели в государеву канцелярию. Пётр, заваленный ворохом бумаг, взятых у Монса при обыске, поднял голову и посмотрел на арестанта. И в этом чёрном от горя и гнева взгляде было столько жестокости и жажды мести, что Монс затрясся всем телом и, лишившись сознания, упал.
Государь сам занялся расследованием. Только теперь он ясно понял, чью подчас волю выполнял, потворствуя жене. По её указке он кого-то повышал в должностях, кому-то дарил поместья, кого-то карал, кого-то миловал.
Вскоре Монсу было предъявлено «обвинение во взяточничестве». Верховный суд постановил: «Учинить ему, Вильяму Монсу смертную казнь…» Пётр тотчас утвердил приговор суда. И Монса обезглавили. Но месть Петра заключалась и в том, что он повёз Екатерину смотреть на отрубленную голову её любовника. Историки пишут: «Ничем не выдала своего потрясения государыня, когда они медленно проезжали мимо эшафота». Пётр, не спуская глаз, следил за ней. Но даже ресницы не дрогнули на её бледном красивом лице. Отношения супругов были безвозвратно подорваны. Ледяным отчуждением теперь веяло от Петра. Он не желал её видеть. Все доверенные лица императрицы были удалены от двора. Впал в немилость и Меншиков. Екатерина озлобилась, затаилась. И вскоре грянула болезнь дотоле вполне здорового государя.
Одна из версий историков утверждает причастность Екатерины и Меншикова к отравлению Петра. Но мы не касаемся этой версии.
Государь Император Всея Руси Пётр Великий умирал в страшных «желудочных» муках. Крики и стоны его раздавались по всему дворцу. Жена не подходила к нему. Незадолго до кончины, когда боль на минуту утихла, Пётр пришёл в себя и выразил желание срочно что-то написать. Однако отяжелевшая его рука с трудом смогла вывести едва понятные буквы: «Отдайте всё…». Заметив, что пишет неясно, он, набравшись сил, крикнул, чтоб позвали его любимую дочь Анну. Но пока за ней бегали, он впал в беспамятство и уже более не пришёл в сознание. Так и осталось загадкой, кому Пётр I намеревался отдать всё, в том числе и трон.
После смерти государя все сенаторы и сановники пришли к тайному согласию: возвести на престол внука Петра I, малолетнего Петра, сына некогда казнённого великого князя Алексея Петровича. На другой день чуть свет, прежде, нежели в императорский дворец прибыл князь Меншиков, сенаторы собрались в тронном зале. Все люто ненавидели Меншикова и холодно смотрели на царицу. У дверей была поставлена стража. Меншикова, когда тот прибыл во дворец, в зал не пустили. Тогда он срочно приказал привести роту вооружённых гвардейцев и отправился с ними во дворец. Разоружив охрану, он выломал дверь в зал, где заседали сенаторы и генералы, и совершенно спокойным голосом объявил, что императрицею и законною русскою государыней остаётся на престоле Екатерина Алексеевна, отныне Екатерина I. Под ружьями никто не смог ни пикнуть, ни воспротивиться.
Однако царствование сильно пьющей к тому времени Екатерины I было недолгим. Поначалу меж балами и пышными трапезами она стала даже вникать в некоторые дела и порой довольно сносно вела их. Впрочем, за действиями этими постоянно чувствовалась рука и воля Меншикова, издавна её любящего и, возможно, ею любимого. Но между ними легла смерть.
Из последних дел Екатерины, умершей в 1727 году (похоже, от цирроза), отметим главное, что сделало честь её имени. Умирая, Екатерина I завещала российский трон не дочерям своим, а внуку Петра и Евдокии Лопухиной – великому юному князю Петру II. Это было её последним решением.
С. Куняев, И. Ракша и певица Л. Нам
Тонкая рябина
Стоя посреди своей овощной лавки, среди ящиков и мешков с морковью и картошкой, здоровый мужик Захар Адрианович Суриков бушевал не на шутку:
– Ты что? Забыл, кто ты есть?.. – и смотрел исподлобья. – Ты ж купеческий сын, ты Иван Суриков! И дрянь эту из головы выкинь! – В сердцах стал швырять в открытые двери на улицу найденные под прилавком книжки. Одну за другой, одну за другой. – Тебе что, в попы идти или же в писаря?.. Нам, Суриковым, чтенье твоё ни к чему. Наши дела серьёзные, капитальные! Мы из села овощи возим, Москву кормим.
Бледный Ваня, голубоглазый красивый мальчик, в испуге стоял за прилавком, прижавшись к ящикам с капустными кочанами, и, опустив голову, виновато молчал. Однако исподволь с волнением следил, как бы отец не обнаружил на полу под большими весами ещё одну любимую книжицу, со стихами Мерзлякова и Цыганова, недавно купленную им на Сухарёвке на сбережённые гроши.
А вечером в столовой за самоваром уже успокоившийся отец сердито пенял матери:
– Плохо ты, мать, за чадом нашим следишь. Москва – это тебе не деревня, не Новосёлово наше, не Углич. И даже не Ярославль. – Он вскидывал толстый палец. – Тут торговое дело рисковое. Раз уж приехали в Первопрестольную, тут главное – не сорваться. Уровень соблюсти.
Кроткая мать разливала чай, боясь возразить мужу, сказать, что если он и сорвётся, уровень этот, то скорее из-за его пьянства, из-за горькой, которую муж частенько ой как жалует. А что до чтения книжек их сыном, то мать, неграмотная селянка, сама украдкой совала любимому Ванечке на книжки копеечку. Сама с радостью слушала, сидя на кухне, его бойкое чтение, а главное – его собственные безыскусные, простые стишки про прежнюю жизнь в их далёком селе Новосёлове, в их избе, где под окном росла прекрасная рябина: «Весело текли вы, детские года. Вас не омрачали горе и беда». Мать вздыхала, подперев щёку рукой: какое уж там «не омрачали». И голодали, бывало, страшно, а отец и пил, и бил!.. Да порой и тут и пил, и бил. А мать всё старалась и в престольные Божьи праздники, принарядив сына, отпускала его в соседний монастырь на Ордынке – помолиться Святому Николе. Любимый Николай Чудотворец – он добрый, может, он и даст её мальчику счастья. Мать разрешала сыну даже зайти к знакомым монашкам, грамотным и сердечным. Там Ванюша в кельях читал им вслух с выражением и Псалтырь, и Евангелие. Пил в их светлой трапезной чай с халвой и бубликами за длинным столом с белой, расшитой монашками скатертью.
А вечерами дома отец, опять выпив изрядно горькой, поучительно наставлял, жуя кулебяку:
– Книжность, Иван, купцу дохода не даст. От неё одно зло. От неё, от книжки, одно мотовство и разврат. – Ладонью он оберегал от крошек свою бороду. – От неё купцу одна вредность. А ты – мой преемник. Значит, дела мои должен когда-никогда принять. – Вздыхал: – Если найду хоть ещё одну книжку в лавке или в дому – в печи спалю.
Захар Суриков не знал тогда, что эта самая «вредность» уже засела в душе его Ванечки. И уже навсегда. Сын тайком под рубахой притаскивал со всех московских рынков дешёвенькие брошюры стихов: и Пушкина, и Некрасова, и Кольцова. И, улучив момент, таясь, лез на чердак. И там, примостясь у слухового оконца, за которым шумела внизу их торговая улица Ордынка, взахлёб, запоем читал и читал. Но главное – порой и сам начинал писать, рифмуя строки и занося их в тетрадку карандашом. Это были его собственные, только что рождённые стихи. Про родную деревню, по которой он очень скучал в суетливой, шумной Москве, про тонкие рябины под окнами, про зелёные леса и луговые туманы, про запах сена и про милых русых девушек с их сладкими хороводными песнями за околицей. Про девушек, среди которых была одна такая незабываемая… А ещё Ваня писал про горькие похороны, которых он, малец, за свою недолгую деревенскую жизнь уже навидался вдосталь. Про всё это ему писалось в его чердачном одиночестве и легко, и жалостливо, и слёзно. «Тихо тащится лошадка, по снегу бредёт, гроб, рогожею покрытый, на погост везёт». А однажды на странице его тетрадки появились такие строчки:
Что шумишь, качаясь, тонкая рябина,
Головой склоняясь до самого тына?
А через дорогу, за рекой широкой,
Так же одиноко дуб стоит высокий.
Как бы мне, рябине, к дубу перебраться?
Я б тогда не стала гнуться и качаться…
Но тут снизу уже опять раздавался знакомый крик, Ваню искали, его звали в лавку. И мальчик, живо сунув тетрадь под солому, таясь, спускался вниз, помогать.
А между тем овощная торговля отца, поначалу процветавшая, стала и правда приходить в упадок. Но не из-за Вани и его книг Вскоре гуляка Захар Суриков допился до того, что чуть было не впал в белую горячку и вовсе не разорил семью. Бедная мать страдала отчаянно, работала не покладая рук и молилась, молилась. И оставалось только одно – продать дом на Ордынке и вернуться в село. Но отец порешил иначе. Ничтоже сумняшеся Захар поручил лавку, жену и сына попечению своего старшего брата, тоже торговца, и, перекрестив всех на прощание, с последними деньгами в кармане надолго уехал в деревню один. Ах какие тяжкие и одинокие годы настали теперь для Вани и его любимой матушки. Горек был чужой хлеб в чужой семье. Но вскоре его любимая мать-брошенка, отболев и отмучившись, умерла, а юный подросший Ваня – уже, можно сказать, паренёк Иван Захарович Суриков (по возвращении отца в Москву) – вынужден был стать настоящим лавочником.
Сперва он работал удачливым приказчиком, продававшим москвичам с 1859 года железо и уголь. Но не в том были его удача и его богатство. К шестидесятому году у него собралась целая библиотека, вернее, целая полка книг его любимых писателей и поэтов. А ещё распухла толстая тетрадь своих собственных записей, своих стихов, которые молодой человек однажды отважился показать в редакции – известному в те годы литератору А. Н. Плещееву. Поход к Плещееву был важным и трепетным событием для молодого Сурикова. Но отзыв профессионала необычайно вдохновил его! Отзыв был на удивление тёплым: «В Ваших стихах черты истинной народности, фольклора, самобытности, а главное в них – задушевность, глубокое чувство. Вам, голубчик, далее надо писать. Далее». И даже предложил показать стихи молодого лавочника в журнал. Для печати, для опубликования.
Однако в тот период Ивану Сурикову было не до стихов. Повторная женитьба отца, а затем и собственная женитьба на милейшей Марии Ермаковой, девушке-сироте, сделали для Ивана Захаровича невозможной жизнь на старой Ордынке, в родительском доме с мезонином, где он когда-то на чердаке начинал писать. Теперь пришлось бросить и дом, и работу в лавке. И даже снять с женой квартиру, перебиваться случайными заработками. Однако уже не в торговле. Его, чуткого и умного человека, тянуло к книгам, к культуре, к высокому русскому слову, высоким чувствам и мыслям. Сперва пришлось стать типографским наборщиком, набирать свинцовые буквицы чужих книг. Потом – переписчиком чужих рукописей. И только в конце 60-х годов он всё-таки осторожно, с волнением знакомится с авторами, писателями-демократами Нефёдовым и Левитиным. Его же собственные искренние стихи о пережитом, о тяжкой бедняцкой доле, о деревенской и городской жизни, о нежности к «дереву, пруду, кусточку» встретили их живое сочувствие и даже поддержку. Именно они и помогли талантливому и красивому «русскому молодцу» Ивану Сурикову начать печататься в литературных журналах. Сперва – «Семья и школа», затем – «Дело», позже – «Отечественные записки». А в 1871 году появляется и собственный первый сборник поэта. Очень свежий, фольклорный, полный житейских сюжетов, жизненных драм и дивных пейзажей. Вошли туда и ранние стихи, в том числе и те, написанные на чердаке: о бедной лошадке, везущей гроб; о тонкой рябине, которая, как юная девушка, всё мечтала и не могла соединиться с милым дубом развесистым:
Тонкими ветвями я б к нему прижалась
И с его листами день и ночь шепталась.
Но нельзя рябине к дубу перебраться,
Знать, судьба такая – век одной качаться.
Но, несмотря на радость автора даже от типографского запаха красок собственной книги, жизнь не стала легче. Содержать семью было не на что. Тираж книги был маленький, имя автора – незнакомо, и раскупалась она не бойко. И тогда Суриков решается на рискованное дело. Он становится официальным организатором очень близких ему «литературных сил русских окраин». В 1872 году он собирает рукописи и публикует один за другим талантливые сборники провинциальных писателей-самоучек. Скоро эта его деятельность становится в столичных кругах заметной, даже весомой и нужной. Хотя «непролазная» и привычная нужда, почти нищета (невозможность снять достойную квартиру, вызвать на дом к детям врача, даже сшить себе новый приличный сюртук), которую Суриков тщательно скрывал от коллег-литераторов, буквально не отпускала. И унижала поэта до боли.
Между тем в 1875 году, после выхода уже второго сборника Ивана Захаровича Сурикова, его как «литературного самородка» при активной поддержке Льва Николаевича Толстого торжественно принимают в почётные члены Общества любителей русской словесности. И вот тут-то такая популярность начинает наконец приносить ему хоть какие-то деньги. Именно в эти годы поэт серьёзно занимается историческим эпосом, былинами и прекрасной «малороссийской песней». И в эти же годы (воистину в России надо жить долго) на его слова известные композиторы сочиняют прекрасную музыку: Кюи, Бородин, Римский-Корсаков. А на стихи «Я ли во поле не травушка была», «В огороде возле броду», «Рассвет» вдохновенные мелодии пишет сам великий Пётр Ильич Чайковский. Ну а буквально народными, даже утратившими музыкальное авторство становятся знаменитые и поныне «суриковские» песни: «Степь да степь кругом, путь далёк лежит» и «Тонкая рябина». Они и при жизни Ивана Захаровича уже зазвучали и под гармошку, и под гитару по всей матушке-России. Их пели и в сёлах, и в городах. В самых разных кругах: разночинных, мещанских, батрацких и даже приволжских бурлацких.
Мало-помалу у красавца поэта и с деньгами всё как-то стало налаживаться. Новая квартира, наряды жене и детям, да и себе – наконец-то! – «роскошный сюртук». Прямо-таки новая «гоголевская шинель». И душе… главное ведь – душе наконец-то спокойствие и радость. Помог-таки Николай Чудотворец. Жаль только, матушка не дожила до этих дней, не увидела успеха любимого Ванечки. А Ванечка Суриков уже вдохновенно, целеустремлённо планирует новое – выпускать свой собственный специальный журнал, призванный объединить поэтов и писателей «из народа». Кое с кем советуется, прикидывает список соратников, соавторов, редакторов. Пытается найти для издания меценатов, разыскать деньги. И вот наконец подаёт прошение. Однако ожидать ответа пришлось недолго… Из московского полицейского управления он неожиданно быстро получает пакет, а в нём под сургучной печатью – категорический запрет на издание… Но отчего запрет?.. Почему? В ответе – ни слова…
Этот отказ для Ивана Захаровича был страшным ударом. Он ранил трепетную душу поэта болезненно, резко. Ему становится безнадёжно ясно: в литературной дворянской среде он, как и прежде, чужак, он всё равно простолюдин. И для властей он – деревенщина, бывший торгаш и человек в чём-то даже опасный. И вырваться из этой социальной ниши ему, Сурикову, и впредь невозможно.
И вот ещё вчера красивый, высокий, здоровый человек, он резко заболевает. Да и прежние полуголодные годы, нищета и житейские мытарства дают о себе знать, подкашивают здоровье.
В 1878 году у поэта открывается жгучий туберкулёз, с кровохарканьем. И хотя любящая жена и друзья-литераторы предпринимают отчаянные усилия спасти Ивана Захаровича, в 1880 году он тихо-тихо умирает. Тридцати девяти лет от роду. Ладный, стройный, в самом расцвете доброго, светлого дарования. Умирает, провидчески описав свой уход в знаменитых стихах: «У могилы матери», «Умирающая швейка», «Песня бедняка». Ну а что его «Тонкая рябина»? Жива ли? А тонкая рябина его всё жива, она всё не стареет. Всё шумит и клонится на ветру «тонкими ветвями до самого тына». Вот уже больше ста лет. И каждая русская душа до боли любит её, эту песню. И поёт и соло, и хором, и на сцене, и в любом застолье – и радостно, и со слезой: «Знать, судьба такая – век одной качаться».
Шанхай. И. Ракша
А «Катеринушка» действительно Петра словно злым кореньем обвела: увидев её однажды, он не мог забыть её тонкого лица, пышнотелых форм, застенчиво-лукавой полуулыбки. Ещё в 1708 году хоть и шуткой, Пётр выразил желание видеть возле себя «необъявленную» пока подругу. «Гораздо без вас скучаю, – писал он ей из Вильно, – а потому что ошить и обмыть мя некому…» Забывая сына-первенца, решительно изгнав из памяти образ несчастной первой своей супруги Евдокии Лопухиной, а за ней и первой фаворитки Анны Монс, Пётр как зеницу ока хранил вторую, более счастливую, избранницу. Даже в разгар своей борьбы с Карлом, полагая жизнь свою в опасности, государь помнил о любезной сердцу фаворитке и назначил послать ей три тысячи рублей – сумму для того времени весьма значительную.
Впрочем, любовь выражалась не только в посылках денег и бутылок с венгерским, до которых та всю жизнь была «зело охоча». Любовь выказывалась в постоянных заботах государя о любимой женщине.
Суровый деспот, человек с железным характером, способный смотреть, как родного сына истязают на дыбе, в своих отношениях к Екатерине он был неузнаваем: письмо за письмом, одно нежнее другого, посылал ей. И каждое – полное любви и заботы.
Не смущало Петра и низкое её происхождение. Марта Самуиловна Скавронская – таково её настоящее имя – лишь после крещения и принятия православия (по настоянию Петра) взяла имя Екатерина Алексеевна. Она была приёмной дочерью протестантского пастора Глюка, который жил в Ливонии, в городе Мариенбурге. К тому времени, когда русские войска под предводительством графа Шереметева принялись теснить шведов и подступили к Мариенбургу (а вскоре взяли в плен его жителей), Марта Самуиловна была уже замужем за блестящим драгуном Иоганном, который вместе со своим отрядом, охранявшим город, бежал из него при приближении русских.
Хорошенькую, пышнотелую Марту как пленницу, как военную добычу взяли в услужение к русскому главнокомандующему. Однако у Шереметева пленницу увидел Меншиков и склонил фельдмаршала уступить ему красавицу. И вскоре «Алексашка, государев любимец» страстно привязался к ней. Да и Марта ответила ему искренней любовью. Было! Было в ней нечто такое, что заставляло кружиться мужские головы. Её характер был взрывчатой смесью нежной, томной женственности и мужской резкости и отваги. Обворожительная, ласковая и кроткая, она не могла не привлечь к себе сердце Меншикова.
В один из дней, будучи в гостях у своего фаворита, Пётр неожиданно заметил красавицу, что прислуживала за столом и которой Алексашка очень гордился. Высказав вдруг пожелание заночевать у Меншикова, Пётр после ужина категорично велел Марте посветить себе в спальне. Меншиков вынужден был покорно склонить голову в знак согласия. Утром, едва Пётр уехал, из спальни медленно вышла Марта. Но уже другая Марта: крутая, сильная, резкая – и тут же высказала Меншикову, как намерена поступать в дальнейшем.
А государь вскоре вновь объявился у Меншикова. «Где же Марта?» – сухо спросил он, не увидев служанки, и по его голосу царский любимец понял: государь приехал повидаться вовсе не с ним. Явилась Марта. Пётр оживился. Пошли смешки, шутки, как и намедни. Но хитрая Марта была задумчива, сдержанна… Смолк и Пётр, словно заворожённый склонившись к тарелке. Весёлая беседа стихла.
В конце ужина она по обязанности поднесла ему рюмку водки на подносе. Пётр поднял взгляд и встретил её глаза, полные зовущих горестных слёз. Пётр быстро встал, опрокинул водку и, отведя взор, резко сказал Алексашке: «Я увожу её с собой…»
Лишь в 1710 году, когда она уже родила Петру двух дочерей, ей было дано звание фрейлины. Однако близкие к государю подмечали: Пётр, вообще не терпевший женщин, вмешивающихся в «мужские» дела, напротив, бывал доволен, когда в деловой разговор вступала Екатерина. Как свидетельствовали близкие к Петру люди, простая и разумная логика собеседницы не раз выводила их из лабиринта придворной софистики, бросала новый свет на многие вопросы.
В тесном кружке приближённых её уже называли не иначе как «государыня». И вот в 1711 году Пётр решил узаконить давние отношения – жениться на ней (при немногих свидетелях) – после одного значительного события. В Прутском походе русские войска попали в плен. И, согласно свидетельству самого Петра, лишь благодаря сметливым подсказкам Екатерины военачальники выпутались из тяжёлой ситуации. Её значимость в глазах общества как заступницы Русского государства сильно возросла. Теперь Пётр стал неразлучен с Екатериной. Повсюду возил с собой и любил окружать её роскошью. Наряды, диадемы, драгоценные каменья на пышной груди. И вся она, крупная, пышная, казалось, была создана для этой роскоши. Хотя, заметим, это не помешало ей родить Петру одиннадцать детей, из которых выжили лишь две дочери: Анна и Елизавета. Елизавете в будущем предстояло стать русской царицей.
Постепенно Екатерина образовала при себе двор, поражавший даже иностранцев отменным вкусом и изяществом. Своим девочкам Екатерина Алексеевна дала прекрасное европейское образование. Хотя сама, даже став царицей, не желала учиться читать и писать. Говорила, что главная её забота теперь – «выучиться делать всё угодное Петру, и этого с неё достаточно».
Однако Меншиков, давняя её любовь, сохранил негласное влияние на Екатерину и после того, как она стала царицей. Она частенько спасала царского любимца от заслуженных наказаний. Как верно подметил историк прошлого, «алчность князя Ижорского не раз выводила Петра из терпения. Но пред царём за князя всегда был верный ходатай. Пётр называл Екатерину и Меншикова «детьми своего сердца», и каждый из «детей» старался, чтоб царская милость не обходила другого». Впрочем, Петра мало интересовали тонкости отношений жены и Меншикова. Практически он во всём доверял супруге. Даже решился короновать её. Это была его высочайшая воля. Воля человека, страстно влюблённого всей мощью души и тела. Передавая Екатерине верховную власть, Пётр перед лицом всей России как бы признавался в единственной своей слабости – бесконечной любви к этой женщине. Однако в конце 1724 года Екатерина преподнесла ему некий страшный «сюрприз».
Пётр старел. А она была ещё молода, к тому же с «большим интимным прошлым». Он часто надолго отлучался, и она как бы невзначай остановила свой женский взор на изящном послушном французе – камергере Монсе.
Пётр, узнав из доноса об измене жены, был взбешён. Екатерина уже объявлена Императрицей Всероссийской, пути назад нет. Доносителя «вычислили» и взяли в тайную канцелярию. Под пыткой тот оговорил и нескольких других лиц, «интимно близких» царице. Петру раскрылась вся ошеломляющая подоплёка цепи измен. И не только с Монсом. Надо заметить, что следствие велось в тайне. В строжайшей тайне государыня и Монс ничего не подозревали и продолжали отношения. 9 ноября 1724 года прямо со следствия Пётр отправился во дворец. Он поужинал, мило поболтал с супругой. Побеседовал невзначай и с приглашённым Монсом. На камергере лежала масса обязанностей. О них и говорили. Ничто не выдавало внутреннего напряжения Петра, не предвещало грозы. «Который час?» – вдруг обратился он к супруге. Та посмотрела на свои часы – подарок Петра из Дрездена: «Девять часов». И тут Пётр вдруг резко вырвал из её рук часы, покрутил стрелку и грозно объявил: «Ошибаетесь. Двенадцать часов. И всем пора идти спать». Все тотчас в смятении разошлись. Через несколько минут Монс был арестован у себя в комнате. На следующий день поутру его ввели в государеву канцелярию. Пётр, заваленный ворохом бумаг, взятых у Монса при обыске, поднял голову и посмотрел на арестанта. И в этом чёрном от горя и гнева взгляде было столько жестокости и жажды мести, что Монс затрясся всем телом и, лишившись сознания, упал.
Государь сам занялся расследованием. Только теперь он ясно понял, чью подчас волю выполнял, потворствуя жене. По её указке он кого-то повышал в должностях, кому-то дарил поместья, кого-то карал, кого-то миловал.
Вскоре Монсу было предъявлено «обвинение во взяточничестве». Верховный суд постановил: «Учинить ему, Вильяму Монсу смертную казнь…» Пётр тотчас утвердил приговор суда. И Монса обезглавили. Но месть Петра заключалась и в том, что он повёз Екатерину смотреть на отрубленную голову её любовника. Историки пишут: «Ничем не выдала своего потрясения государыня, когда они медленно проезжали мимо эшафота». Пётр, не спуская глаз, следил за ней. Но даже ресницы не дрогнули на её бледном красивом лице. Отношения супругов были безвозвратно подорваны. Ледяным отчуждением теперь веяло от Петра. Он не желал её видеть. Все доверенные лица императрицы были удалены от двора. Впал в немилость и Меншиков. Екатерина озлобилась, затаилась. И вскоре грянула болезнь дотоле вполне здорового государя.
Одна из версий историков утверждает причастность Екатерины и Меншикова к отравлению Петра. Но мы не касаемся этой версии.
Государь Император Всея Руси Пётр Великий умирал в страшных «желудочных» муках. Крики и стоны его раздавались по всему дворцу. Жена не подходила к нему. Незадолго до кончины, когда боль на минуту утихла, Пётр пришёл в себя и выразил желание срочно что-то написать. Однако отяжелевшая его рука с трудом смогла вывести едва понятные буквы: «Отдайте всё…». Заметив, что пишет неясно, он, набравшись сил, крикнул, чтоб позвали его любимую дочь Анну. Но пока за ней бегали, он впал в беспамятство и уже более не пришёл в сознание. Так и осталось загадкой, кому Пётр I намеревался отдать всё, в том числе и трон.
После смерти государя все сенаторы и сановники пришли к тайному согласию: возвести на престол внука Петра I, малолетнего Петра, сына некогда казнённого великого князя Алексея Петровича. На другой день чуть свет, прежде, нежели в императорский дворец прибыл князь Меншиков, сенаторы собрались в тронном зале. Все люто ненавидели Меншикова и холодно смотрели на царицу. У дверей была поставлена стража. Меншикова, когда тот прибыл во дворец, в зал не пустили. Тогда он срочно приказал привести роту вооружённых гвардейцев и отправился с ними во дворец. Разоружив охрану, он выломал дверь в зал, где заседали сенаторы и генералы, и совершенно спокойным голосом объявил, что императрицею и законною русскою государыней остаётся на престоле Екатерина Алексеевна, отныне Екатерина I. Под ружьями никто не смог ни пикнуть, ни воспротивиться.
Однако царствование сильно пьющей к тому времени Екатерины I было недолгим. Поначалу меж балами и пышными трапезами она стала даже вникать в некоторые дела и порой довольно сносно вела их. Впрочем, за действиями этими постоянно чувствовалась рука и воля Меншикова, издавна её любящего и, возможно, ею любимого. Но между ними легла смерть.
Из последних дел Екатерины, умершей в 1727 году (похоже, от цирроза), отметим главное, что сделало честь её имени. Умирая, Екатерина I завещала российский трон не дочерям своим, а внуку Петра и Евдокии Лопухиной – великому юному князю Петру II. Это было её последним решением.
С. Куняев, И. Ракша и певица Л. Нам
Тонкая рябина
Стоя посреди своей овощной лавки, среди ящиков и мешков с морковью и картошкой, здоровый мужик Захар Адрианович Суриков бушевал не на шутку:
– Ты что? Забыл, кто ты есть?.. – и смотрел исподлобья. – Ты ж купеческий сын, ты Иван Суриков! И дрянь эту из головы выкинь! – В сердцах стал швырять в открытые двери на улицу найденные под прилавком книжки. Одну за другой, одну за другой. – Тебе что, в попы идти или же в писаря?.. Нам, Суриковым, чтенье твоё ни к чему. Наши дела серьёзные, капитальные! Мы из села овощи возим, Москву кормим.
Бледный Ваня, голубоглазый красивый мальчик, в испуге стоял за прилавком, прижавшись к ящикам с капустными кочанами, и, опустив голову, виновато молчал. Однако исподволь с волнением следил, как бы отец не обнаружил на полу под большими весами ещё одну любимую книжицу, со стихами Мерзлякова и Цыганова, недавно купленную им на Сухарёвке на сбережённые гроши.
А вечером в столовой за самоваром уже успокоившийся отец сердито пенял матери:
– Плохо ты, мать, за чадом нашим следишь. Москва – это тебе не деревня, не Новосёлово наше, не Углич. И даже не Ярославль. – Он вскидывал толстый палец. – Тут торговое дело рисковое. Раз уж приехали в Первопрестольную, тут главное – не сорваться. Уровень соблюсти.
Кроткая мать разливала чай, боясь возразить мужу, сказать, что если он и сорвётся, уровень этот, то скорее из-за его пьянства, из-за горькой, которую муж частенько ой как жалует. А что до чтения книжек их сыном, то мать, неграмотная селянка, сама украдкой совала любимому Ванечке на книжки копеечку. Сама с радостью слушала, сидя на кухне, его бойкое чтение, а главное – его собственные безыскусные, простые стишки про прежнюю жизнь в их далёком селе Новосёлове, в их избе, где под окном росла прекрасная рябина: «Весело текли вы, детские года. Вас не омрачали горе и беда». Мать вздыхала, подперев щёку рукой: какое уж там «не омрачали». И голодали, бывало, страшно, а отец и пил, и бил!.. Да порой и тут и пил, и бил. А мать всё старалась и в престольные Божьи праздники, принарядив сына, отпускала его в соседний монастырь на Ордынке – помолиться Святому Николе. Любимый Николай Чудотворец – он добрый, может, он и даст её мальчику счастья. Мать разрешала сыну даже зайти к знакомым монашкам, грамотным и сердечным. Там Ванюша в кельях читал им вслух с выражением и Псалтырь, и Евангелие. Пил в их светлой трапезной чай с халвой и бубликами за длинным столом с белой, расшитой монашками скатертью.
А вечерами дома отец, опять выпив изрядно горькой, поучительно наставлял, жуя кулебяку:
– Книжность, Иван, купцу дохода не даст. От неё одно зло. От неё, от книжки, одно мотовство и разврат. – Ладонью он оберегал от крошек свою бороду. – От неё купцу одна вредность. А ты – мой преемник. Значит, дела мои должен когда-никогда принять. – Вздыхал: – Если найду хоть ещё одну книжку в лавке или в дому – в печи спалю.
Захар Суриков не знал тогда, что эта самая «вредность» уже засела в душе его Ванечки. И уже навсегда. Сын тайком под рубахой притаскивал со всех московских рынков дешёвенькие брошюры стихов: и Пушкина, и Некрасова, и Кольцова. И, улучив момент, таясь, лез на чердак. И там, примостясь у слухового оконца, за которым шумела внизу их торговая улица Ордынка, взахлёб, запоем читал и читал. Но главное – порой и сам начинал писать, рифмуя строки и занося их в тетрадку карандашом. Это были его собственные, только что рождённые стихи. Про родную деревню, по которой он очень скучал в суетливой, шумной Москве, про тонкие рябины под окнами, про зелёные леса и луговые туманы, про запах сена и про милых русых девушек с их сладкими хороводными песнями за околицей. Про девушек, среди которых была одна такая незабываемая… А ещё Ваня писал про горькие похороны, которых он, малец, за свою недолгую деревенскую жизнь уже навидался вдосталь. Про всё это ему писалось в его чердачном одиночестве и легко, и жалостливо, и слёзно. «Тихо тащится лошадка, по снегу бредёт, гроб, рогожею покрытый, на погост везёт». А однажды на странице его тетрадки появились такие строчки:
Что шумишь, качаясь, тонкая рябина,
Головой склоняясь до самого тына?
А через дорогу, за рекой широкой,
Так же одиноко дуб стоит высокий.
Как бы мне, рябине, к дубу перебраться?
Я б тогда не стала гнуться и качаться…
Но тут снизу уже опять раздавался знакомый крик, Ваню искали, его звали в лавку. И мальчик, живо сунув тетрадь под солому, таясь, спускался вниз, помогать.
А между тем овощная торговля отца, поначалу процветавшая, стала и правда приходить в упадок. Но не из-за Вани и его книг Вскоре гуляка Захар Суриков допился до того, что чуть было не впал в белую горячку и вовсе не разорил семью. Бедная мать страдала отчаянно, работала не покладая рук и молилась, молилась. И оставалось только одно – продать дом на Ордынке и вернуться в село. Но отец порешил иначе. Ничтоже сумняшеся Захар поручил лавку, жену и сына попечению своего старшего брата, тоже торговца, и, перекрестив всех на прощание, с последними деньгами в кармане надолго уехал в деревню один. Ах какие тяжкие и одинокие годы настали теперь для Вани и его любимой матушки. Горек был чужой хлеб в чужой семье. Но вскоре его любимая мать-брошенка, отболев и отмучившись, умерла, а юный подросший Ваня – уже, можно сказать, паренёк Иван Захарович Суриков (по возвращении отца в Москву) – вынужден был стать настоящим лавочником.
Сперва он работал удачливым приказчиком, продававшим москвичам с 1859 года железо и уголь. Но не в том были его удача и его богатство. К шестидесятому году у него собралась целая библиотека, вернее, целая полка книг его любимых писателей и поэтов. А ещё распухла толстая тетрадь своих собственных записей, своих стихов, которые молодой человек однажды отважился показать в редакции – известному в те годы литератору А. Н. Плещееву. Поход к Плещееву был важным и трепетным событием для молодого Сурикова. Но отзыв профессионала необычайно вдохновил его! Отзыв был на удивление тёплым: «В Ваших стихах черты истинной народности, фольклора, самобытности, а главное в них – задушевность, глубокое чувство. Вам, голубчик, далее надо писать. Далее». И даже предложил показать стихи молодого лавочника в журнал. Для печати, для опубликования.
Однако в тот период Ивану Сурикову было не до стихов. Повторная женитьба отца, а затем и собственная женитьба на милейшей Марии Ермаковой, девушке-сироте, сделали для Ивана Захаровича невозможной жизнь на старой Ордынке, в родительском доме с мезонином, где он когда-то на чердаке начинал писать. Теперь пришлось бросить и дом, и работу в лавке. И даже снять с женой квартиру, перебиваться случайными заработками. Однако уже не в торговле. Его, чуткого и умного человека, тянуло к книгам, к культуре, к высокому русскому слову, высоким чувствам и мыслям. Сперва пришлось стать типографским наборщиком, набирать свинцовые буквицы чужих книг. Потом – переписчиком чужих рукописей. И только в конце 60-х годов он всё-таки осторожно, с волнением знакомится с авторами, писателями-демократами Нефёдовым и Левитиным. Его же собственные искренние стихи о пережитом, о тяжкой бедняцкой доле, о деревенской и городской жизни, о нежности к «дереву, пруду, кусточку» встретили их живое сочувствие и даже поддержку. Именно они и помогли талантливому и красивому «русскому молодцу» Ивану Сурикову начать печататься в литературных журналах. Сперва – «Семья и школа», затем – «Дело», позже – «Отечественные записки». А в 1871 году появляется и собственный первый сборник поэта. Очень свежий, фольклорный, полный житейских сюжетов, жизненных драм и дивных пейзажей. Вошли туда и ранние стихи, в том числе и те, написанные на чердаке: о бедной лошадке, везущей гроб; о тонкой рябине, которая, как юная девушка, всё мечтала и не могла соединиться с милым дубом развесистым:
Тонкими ветвями я б к нему прижалась
И с его листами день и ночь шепталась.
Но нельзя рябине к дубу перебраться,
Знать, судьба такая – век одной качаться.
Но, несмотря на радость автора даже от типографского запаха красок собственной книги, жизнь не стала легче. Содержать семью было не на что. Тираж книги был маленький, имя автора – незнакомо, и раскупалась она не бойко. И тогда Суриков решается на рискованное дело. Он становится официальным организатором очень близких ему «литературных сил русских окраин». В 1872 году он собирает рукописи и публикует один за другим талантливые сборники провинциальных писателей-самоучек. Скоро эта его деятельность становится в столичных кругах заметной, даже весомой и нужной. Хотя «непролазная» и привычная нужда, почти нищета (невозможность снять достойную квартиру, вызвать на дом к детям врача, даже сшить себе новый приличный сюртук), которую Суриков тщательно скрывал от коллег-литераторов, буквально не отпускала. И унижала поэта до боли.
Между тем в 1875 году, после выхода уже второго сборника Ивана Захаровича Сурикова, его как «литературного самородка» при активной поддержке Льва Николаевича Толстого торжественно принимают в почётные члены Общества любителей русской словесности. И вот тут-то такая популярность начинает наконец приносить ему хоть какие-то деньги. Именно в эти годы поэт серьёзно занимается историческим эпосом, былинами и прекрасной «малороссийской песней». И в эти же годы (воистину в России надо жить долго) на его слова известные композиторы сочиняют прекрасную музыку: Кюи, Бородин, Римский-Корсаков. А на стихи «Я ли во поле не травушка была», «В огороде возле броду», «Рассвет» вдохновенные мелодии пишет сам великий Пётр Ильич Чайковский. Ну а буквально народными, даже утратившими музыкальное авторство становятся знаменитые и поныне «суриковские» песни: «Степь да степь кругом, путь далёк лежит» и «Тонкая рябина». Они и при жизни Ивана Захаровича уже зазвучали и под гармошку, и под гитару по всей матушке-России. Их пели и в сёлах, и в городах. В самых разных кругах: разночинных, мещанских, батрацких и даже приволжских бурлацких.
Мало-помалу у красавца поэта и с деньгами всё как-то стало налаживаться. Новая квартира, наряды жене и детям, да и себе – наконец-то! – «роскошный сюртук». Прямо-таки новая «гоголевская шинель». И душе… главное ведь – душе наконец-то спокойствие и радость. Помог-таки Николай Чудотворец. Жаль только, матушка не дожила до этих дней, не увидела успеха любимого Ванечки. А Ванечка Суриков уже вдохновенно, целеустремлённо планирует новое – выпускать свой собственный специальный журнал, призванный объединить поэтов и писателей «из народа». Кое с кем советуется, прикидывает список соратников, соавторов, редакторов. Пытается найти для издания меценатов, разыскать деньги. И вот наконец подаёт прошение. Однако ожидать ответа пришлось недолго… Из московского полицейского управления он неожиданно быстро получает пакет, а в нём под сургучной печатью – категорический запрет на издание… Но отчего запрет?.. Почему? В ответе – ни слова…
Этот отказ для Ивана Захаровича был страшным ударом. Он ранил трепетную душу поэта болезненно, резко. Ему становится безнадёжно ясно: в литературной дворянской среде он, как и прежде, чужак, он всё равно простолюдин. И для властей он – деревенщина, бывший торгаш и человек в чём-то даже опасный. И вырваться из этой социальной ниши ему, Сурикову, и впредь невозможно.
И вот ещё вчера красивый, высокий, здоровый человек, он резко заболевает. Да и прежние полуголодные годы, нищета и житейские мытарства дают о себе знать, подкашивают здоровье.
В 1878 году у поэта открывается жгучий туберкулёз, с кровохарканьем. И хотя любящая жена и друзья-литераторы предпринимают отчаянные усилия спасти Ивана Захаровича, в 1880 году он тихо-тихо умирает. Тридцати девяти лет от роду. Ладный, стройный, в самом расцвете доброго, светлого дарования. Умирает, провидчески описав свой уход в знаменитых стихах: «У могилы матери», «Умирающая швейка», «Песня бедняка». Ну а что его «Тонкая рябина»? Жива ли? А тонкая рябина его всё жива, она всё не стареет. Всё шумит и клонится на ветру «тонкими ветвями до самого тына». Вот уже больше ста лет. И каждая русская душа до боли любит её, эту песню. И поёт и соло, и хором, и на сцене, и в любом застолье – и радостно, и со слезой: «Знать, судьба такая – век одной качаться».
Шанхай. И. Ракша