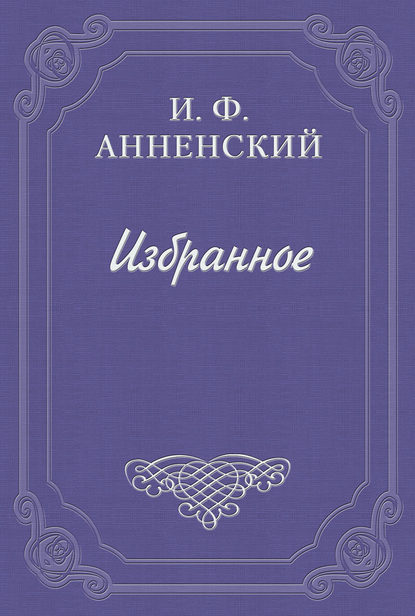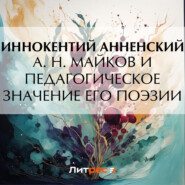По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стихотворения Я. П. Полонского как педагогический материал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Исчезла как виденье, сна,
Как чудный призрак.
Иногда двойное сравнение в живом рассказе идет естественной поправкой —
Мелькает, как перед зарей
На горизонте смутный день.
Или:
Верней, как лунный свет —
На белом мраморе.
И точно зарево…
Нет, точно веер
Из розовых лучей.
Неудачно многосложное сравнение:
Клали спать-почивать, как малютку,
Как цветок, как фарфор, как игрушку.
Отрицательные сравнения есть характерный вид сравнений в нашей народной поэзии.
Его изредка употреблял и Пушкин, напр. в начале Братьев Разбойников (Не стая воронов слеталась), Некрасов (в изображении Мороза-воеводы). У Полонского отрицательные сравнения встречаются в «Зимней невесте» и «Кузнечик-музыкант»; напр.:
То не вопли, то не стоны
То бубенчики звенят, —
То малиновые звоны
По ветру летят.
Теперь надо сказать несколько слов о гиперболическом характере изображения. Гипербола в сущности захватывает в поэзии гораздо большее место, чем то, которое ей отводится в учебниках. В «Анчаре» Пушкина фраза «И пот по бледному челу струился хладными ручьями» есть гипербола, такая же как огурец с гору, даже большая, ибо первая есть бессознательный художественный прием, а вторая образец наглой лжи. В нашей обыденной речи мы сыплем гиперболами – я ужасно устал, я смертельно голоден и т. п. Склонность поэта к гиперболе, как у Державина или Виктора Гюго, делает часто речь вычурной или монотонной, но доза гиперболизма вполне естественна во всяком поэте.
Приведем, несколько образцов из нашего поэта.
С печатью ада на челе.
Невозмутим был, как кремень.
Я, как бес,
На драку с братьями полез.
Ведь врагов
Религии моих отцов
Не меньше этих комаров.
Растопленный свинец
Как бы прожег меня, гора
Легла мне на сердце.
Все эти примеры взяты из Келиота; это обилие объясняет общую монотонную приподнятость и тон поэмы. Очень красива гипербола в «Кузнечике-Музыканте».
Это приглашенье
Принял мой кузнечик с той надеждой темной,
При которой искра кажется огромной
Огненной звездою.
Рядом со сравнением можно поставить параллелизм. Народная песня любит параллелизмы; они свойственны собственно лирической поэзии – эпос их не знает. Вот пример из известной народной басни:
Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали.
Ах, кабы на меня да не кручина,
Ни о чем бы я не тужила.
Распутывать и разъяснять параллелизмы народной поэзии представляет интересную и трудную задачу для историков литературы и мифологов. Но в поэзии художественной параллелизм имеет не такую глубокую, древнюю основу – он основывается на том же психологическом процессе, что метафора и сравнение; только при этом обе части сравнения самостоятельны и порой разрастаются в целые картины. Наши художественные песни и романы дают много примеров параллелизма. Вспомним напр., у гр. А. Толстого в его романсе «В отлива час не верь измене моря». Здесь параллельно развертываются две картины. У Полонского мы находим прекрасные образцы параллелизмов. Напр., в стихотворении «Чайка».
Рисуется прелестная картина обломков корабля, над которыми носится чайка, а потом та же картина является с лирическим характером.
Счастье мое, ты – корабль.
Море житейское бьет в тебя бурной волной,
Если погибнешь ты, буду, как чайка стонать над тобой.
Это параллелизм очень поэтичный, но уже с характером аллегории.
Вспомним еще его параллель (Из Бур-Дильона) между ночью и днем, умом и любовью: «Ночь смотрит тысячами глаз» или лирическую пьеску «Не мои ли страсти»; «Звезды».
Но поэт наш гораздо более параллелизма любит аллегорию, как мы уже говорили выше. Таковы стихотворения его: «Нищий», «Фрина». Этот характер поэзии переходит и на крупные вещи (см. выше).
С точки зрения художественной гораздо ценнее и выше кажутся мне те произведения Полонского, где, вместо параллелизма, переходящего в аллегорию (как в «Звездах») или полной аллегории (как в басне) является олицетворение, «довлеющее себе», ни на что не намекающее. Метафора, разрастаясь, дает такие олицетворения, внося чувства и страсти, борьбу и страдания людей в отдаленнейшие от человеческого духа уголки природы. Скала, туча, звезда перед нами действительно оживают, а не только называются живыми, и художественная сила поэта, заставляет нас испытывать порою то же чувство, которое некогда ощущал вероятно политеист-грек среди своих одухотворенных дубов, рек, утесов. Может на минуту возникнуть вопрос: не вредит ли развитию ребенка это волшебное возвращение чуть что не на порог фетишизма? Но вопрос легко разрешается, как я думаю, следующими соображениями. Человеческий ум, давая нам новые поэтические создания, вкладывает в них и новое содержание. Поэты, повторяя старые приемы и формы, дают новые идеи, изображают новые чувства. Сосна и пальма Гейне думают совсем не то, что Лавр-Дафна у Овидия, а гейневский утес не похож на гомерических Сциллу и Харибду. Живость просопопейи (олицетворения) только помогает поэту лишний раз иллюстрировать сердце, как оно бьется у современных ему людей.
Затем, не следует думать, чтобы впечатление от художественного создания могло когда-нибудь сравниться с впечатлением от реальности. Во всяком случае, впечатление от поэтического олицетворения будет похоже на ощущение, которое производит декорация, картина, не более.
У Полонского есть прекрасные олицетворения: ночи (в стихотворении «Холодеющая ночь», о котором мы уже говорили), зимы («Зимняя невеста» – см. выше). Но еще лучше представляются мне олицетворения конкретных предметов: скалы, волны, деревьев.
Хмурые тучи, блуждая по небу в знойный вечер, спорят, и их спор разрешается ударом молнии. Скала отвечает на этот удар, сопровождаемый раскатом грома, протяжным жалобным стоном; и, повинуясь чувству жалости, они смиряются и ложатся у ее ног.
Вспомним также «Влюбленный месяц» прекрасное олицетворение волны в одном из лучших лирических произведений нашего поэта «На закат».
Поразительно художественно изображена Галлюцинация поэта в пьесе «Тишь и Мрак»:
Дымясь, неподвижные звезды
В эфире горят, как смола,
И запахом ладана сильно
Ночная пропитана мгла.
И месяц холодный, как будто
Мертвец, посреди облаков,
Стоит над долиной, покрытой
Рядами могильных холмов.
Дальше картина выдерживается в том же тоне: месяц катится, как будто на нем везут тяжелый гроб; темные тучи висят печальным балдахином, а красные звезды горят, точно свечи повитые крепом; от них распространяется какой то фосфорический дымок, который, расплываясь в черной дали, одевает «Мертвый череп земли».
У греков страх, жалость, война, сон, смерть – все получало в верованиях поэзии человеческие формы. В современной поэзии можно усмотреть подобные же олицетворения: вспомним Красную Смерть Эдгара По, Судьбу в виде старухи у Гейне. У Полонского есть замечательное олицетворение Нищеты, Смерти и гораздо менее удачное – Голода. В последней, XVI главе поэмы «Куклы» являются две мрачные фигуры – Нищета и Смерть.
Нищета – жалкая старуха, которая обращается потом в грязный комочек и катится по дороге. Смерть обрисована страшными, но характерными красками.
Как чудный призрак.
Иногда двойное сравнение в живом рассказе идет естественной поправкой —
Мелькает, как перед зарей
На горизонте смутный день.
Или:
Верней, как лунный свет —
На белом мраморе.
И точно зарево…
Нет, точно веер
Из розовых лучей.
Неудачно многосложное сравнение:
Клали спать-почивать, как малютку,
Как цветок, как фарфор, как игрушку.
Отрицательные сравнения есть характерный вид сравнений в нашей народной поэзии.
Его изредка употреблял и Пушкин, напр. в начале Братьев Разбойников (Не стая воронов слеталась), Некрасов (в изображении Мороза-воеводы). У Полонского отрицательные сравнения встречаются в «Зимней невесте» и «Кузнечик-музыкант»; напр.:
То не вопли, то не стоны
То бубенчики звенят, —
То малиновые звоны
По ветру летят.
Теперь надо сказать несколько слов о гиперболическом характере изображения. Гипербола в сущности захватывает в поэзии гораздо большее место, чем то, которое ей отводится в учебниках. В «Анчаре» Пушкина фраза «И пот по бледному челу струился хладными ручьями» есть гипербола, такая же как огурец с гору, даже большая, ибо первая есть бессознательный художественный прием, а вторая образец наглой лжи. В нашей обыденной речи мы сыплем гиперболами – я ужасно устал, я смертельно голоден и т. п. Склонность поэта к гиперболе, как у Державина или Виктора Гюго, делает часто речь вычурной или монотонной, но доза гиперболизма вполне естественна во всяком поэте.
Приведем, несколько образцов из нашего поэта.
С печатью ада на челе.
Невозмутим был, как кремень.
Я, как бес,
На драку с братьями полез.
Ведь врагов
Религии моих отцов
Не меньше этих комаров.
Растопленный свинец
Как бы прожег меня, гора
Легла мне на сердце.
Все эти примеры взяты из Келиота; это обилие объясняет общую монотонную приподнятость и тон поэмы. Очень красива гипербола в «Кузнечике-Музыканте».
Это приглашенье
Принял мой кузнечик с той надеждой темной,
При которой искра кажется огромной
Огненной звездою.
Рядом со сравнением можно поставить параллелизм. Народная песня любит параллелизмы; они свойственны собственно лирической поэзии – эпос их не знает. Вот пример из известной народной басни:
Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали.
Ах, кабы на меня да не кручина,
Ни о чем бы я не тужила.
Распутывать и разъяснять параллелизмы народной поэзии представляет интересную и трудную задачу для историков литературы и мифологов. Но в поэзии художественной параллелизм имеет не такую глубокую, древнюю основу – он основывается на том же психологическом процессе, что метафора и сравнение; только при этом обе части сравнения самостоятельны и порой разрастаются в целые картины. Наши художественные песни и романы дают много примеров параллелизма. Вспомним напр., у гр. А. Толстого в его романсе «В отлива час не верь измене моря». Здесь параллельно развертываются две картины. У Полонского мы находим прекрасные образцы параллелизмов. Напр., в стихотворении «Чайка».
Рисуется прелестная картина обломков корабля, над которыми носится чайка, а потом та же картина является с лирическим характером.
Счастье мое, ты – корабль.
Море житейское бьет в тебя бурной волной,
Если погибнешь ты, буду, как чайка стонать над тобой.
Это параллелизм очень поэтичный, но уже с характером аллегории.
Вспомним еще его параллель (Из Бур-Дильона) между ночью и днем, умом и любовью: «Ночь смотрит тысячами глаз» или лирическую пьеску «Не мои ли страсти»; «Звезды».
Но поэт наш гораздо более параллелизма любит аллегорию, как мы уже говорили выше. Таковы стихотворения его: «Нищий», «Фрина». Этот характер поэзии переходит и на крупные вещи (см. выше).
С точки зрения художественной гораздо ценнее и выше кажутся мне те произведения Полонского, где, вместо параллелизма, переходящего в аллегорию (как в «Звездах») или полной аллегории (как в басне) является олицетворение, «довлеющее себе», ни на что не намекающее. Метафора, разрастаясь, дает такие олицетворения, внося чувства и страсти, борьбу и страдания людей в отдаленнейшие от человеческого духа уголки природы. Скала, туча, звезда перед нами действительно оживают, а не только называются живыми, и художественная сила поэта, заставляет нас испытывать порою то же чувство, которое некогда ощущал вероятно политеист-грек среди своих одухотворенных дубов, рек, утесов. Может на минуту возникнуть вопрос: не вредит ли развитию ребенка это волшебное возвращение чуть что не на порог фетишизма? Но вопрос легко разрешается, как я думаю, следующими соображениями. Человеческий ум, давая нам новые поэтические создания, вкладывает в них и новое содержание. Поэты, повторяя старые приемы и формы, дают новые идеи, изображают новые чувства. Сосна и пальма Гейне думают совсем не то, что Лавр-Дафна у Овидия, а гейневский утес не похож на гомерических Сциллу и Харибду. Живость просопопейи (олицетворения) только помогает поэту лишний раз иллюстрировать сердце, как оно бьется у современных ему людей.
Затем, не следует думать, чтобы впечатление от художественного создания могло когда-нибудь сравниться с впечатлением от реальности. Во всяком случае, впечатление от поэтического олицетворения будет похоже на ощущение, которое производит декорация, картина, не более.
У Полонского есть прекрасные олицетворения: ночи (в стихотворении «Холодеющая ночь», о котором мы уже говорили), зимы («Зимняя невеста» – см. выше). Но еще лучше представляются мне олицетворения конкретных предметов: скалы, волны, деревьев.
Хмурые тучи, блуждая по небу в знойный вечер, спорят, и их спор разрешается ударом молнии. Скала отвечает на этот удар, сопровождаемый раскатом грома, протяжным жалобным стоном; и, повинуясь чувству жалости, они смиряются и ложатся у ее ног.
Вспомним также «Влюбленный месяц» прекрасное олицетворение волны в одном из лучших лирических произведений нашего поэта «На закат».
Поразительно художественно изображена Галлюцинация поэта в пьесе «Тишь и Мрак»:
Дымясь, неподвижные звезды
В эфире горят, как смола,
И запахом ладана сильно
Ночная пропитана мгла.
И месяц холодный, как будто
Мертвец, посреди облаков,
Стоит над долиной, покрытой
Рядами могильных холмов.
Дальше картина выдерживается в том же тоне: месяц катится, как будто на нем везут тяжелый гроб; темные тучи висят печальным балдахином, а красные звезды горят, точно свечи повитые крепом; от них распространяется какой то фосфорический дымок, который, расплываясь в черной дали, одевает «Мертвый череп земли».
У греков страх, жалость, война, сон, смерть – все получало в верованиях поэзии человеческие формы. В современной поэзии можно усмотреть подобные же олицетворения: вспомним Красную Смерть Эдгара По, Судьбу в виде старухи у Гейне. У Полонского есть замечательное олицетворение Нищеты, Смерти и гораздо менее удачное – Голода. В последней, XVI главе поэмы «Куклы» являются две мрачные фигуры – Нищета и Смерть.
Нищета – жалкая старуха, которая обращается потом в грязный комочек и катится по дороге. Смерть обрисована страшными, но характерными красками.