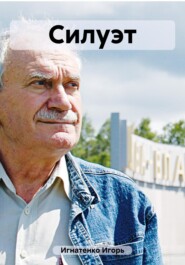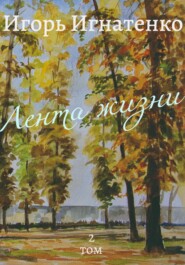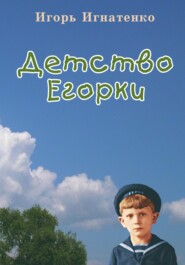По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лента жизни. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Седьмой чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Михаил Таль, 1972 г.
– Михаил Нехемьевич, поздравляю вас с успешным окончанием сеанса. Что вы можете сказать об игре благовещенских шахматистов?
– Вполне квалифицированные игроки. Более того, меня порадовала ваша молодежь. Запомнил двух мальчишек, русоволосого и брюнета, они рядышком сидели (Куксова и Неверова. – И. И.), у них неплохое будущее. Разумеется, если станут работать над собой не покладая рук. Формула успеха известна – один процент гения и девяносто девять процентов потения. Шахматы не исключение. Хм, получилось в рифму! (Улыбается).
– Вас давно называют шахматным гением. Особенно после победы над Ботвинником. Как вы относитесь к подобного рода характеристикам?
– Людям виднее… Хотя я сам отношусь к себе весьма критически. Иначе бы задержался на шахматном троне дольше одного года и не проиграл матч-реванш глубоко уважаемому мною Михаилу Моисеевичу. Притом гений – это человек, наделенный с избытком каким-то одним качеством, но компенсаторно обделенный в чем-то другом. Футболист, к примеру, я никудышный…
– Как рано вы взяли в руки шахматные фигуры?
– Семи лет, первоклассником, я пришел в Рижский дворец пионеров. Мне повезло – моим наставником стал Александр Нафтальевич Кобленц. Он был неоднократным чемпионом Латвии, побеждал и становился призером всесоюзных и международных турниров. Выше мастера спорта ему не удалось подняться, зато стал заслуженным тренером СССР и до сих пор является моим наставником. К слову, в довоенную пору он руководил шахматным клубом Киевского дворца пионеров и воспитал будущего международного гроссмейстера Давида Бронштейна, ставшего впоследствии участником матчей за корону чемпиона мира. Так что не один я у него такой.
– Вы стали чемпионом мира в двадцать четыре года. Никто в таком возрасте не взбирался на подобную вершину. Это было трудно?
– Пришлось нелегко… Но, как я убедился вскоре, удержать звание оказалось гораздо труднее, чем заполучить. Почивание на лаврах не затянулось… (Улыбается). Мудрость Ботвинника победила лихость Таля. Михаил Моисеевич изучил меня от корки до корки и взял буквально голыми руками. Если у него я выиграл матч с результатом «плюс четыре», то должок мне он возвратил по формуле «плюс пять». Убедительно, ничего не скажешь! И жаловаться некому… Надо сказать, справедливости ради, что двумя годами ранее Ботвинник проделал тот же самый «трюк» с Василием Васильевичем Смысловым. Дал нам поцарствовать на троне по году – и восстановил статус-кво.
– До вас в Благовещенске гастролировал гроссмейстер Александр Зайцев. Он говорил, что учился на ваших партиях.
– Александр Николаевич скромничает и немного льстит мне. Учился он у великих шахматистов прошлого, но я рад, что и меня не обошел стороной. На одном из финалов чемпионата Союза мы сыграли с Зайцевым умопомрачительную партию, наполненную большим количеством ударов и контрударов, головоломных жертв пешек и фигур, не исключая ферзей, хотя еще большее количество комбинаций осталось «за кадром», когда мы разбирали после игры эту партию и показывали друг другу возможные варианты с обеих сторон. Как ни смешно, но под тиканье турнирных часов пересчитать друг друга никто из нас так и не сумел, партия закончилась вничью, хотя приз за красоту получила. Такое бывает нередко – «кровь» льется рекой, залпы орудий сотрясают поле битвы. А в результате – банальная половинка очка каждому бойцу…
– Сейчас чемпионом мира является Борис Спасский. Все ждут его матча с американцем Робертом Фишером. Но выбор места поединка затягивается, напряжение нарастает. В чем причина, как вы думаете?
– Причин, как водится, несколько. Скажу о том, как мне это видится. В шахматном плане Спасский силен всесторонне – стратегически, тактически, комбинационно, отлично знает теорию. К тому же он хороший спортсмен, и не только как шахматный боец, но и вообще, физически. Достаточно сказать, что юношей Борис был чемпионом Ленинграда по прыжкам в высоту, брал планку на отметке 190 сантиметров, а это вам не шуточки, еще чуток – и стал бы мастером спорта по легкой атлетике.
Бобби Фишер – вот уж кто гений так гений! В пятнадцать лет стал гроссмейстером, ворвался в мировую шахматную элиту и навел панику среди мэтров. Разумеется, он мечтает победить Спасского, и у него есть веские на то аргументы.
Сейчас Фишер ищет место сражения, где ему было бы максимально комфортно использовать все свои козыри – потрясающую работоспособность за шахматной доской, неуемную жажду победы, энциклопедические знания теории и собственные кабинетные разработки в излюбленных дебютах. Он хочет, чтобы все вращалось вокруг его интересов и запросов, которые многим кажутся порой капризами избалованного вундеркинда. Допустим, на обыкновенных стульях он отказывается сидеть. Бобби требует комфортабельного кресла, способного максимально удобно разместить его почти двухметровую фигуру. Впрочем, и сопернику он тоже испрашивает такого же комфорта, надо отдать должное. Я уже не говорю о пятизвездочном отеле, калорийном питании, кондиционерах, автомобилях и прочих интересных вещах. Даже сцену Бобби требует отделить от зала пуленепробиваемым стеклом, способным также изолировать игроков от постороннего шума. Мечталось ли подобное Стейницу, Ласкеру или Чигорину?! Вряд ли.
Особая статья – призовой фонд матча и пропорции его дележа между победителем и побежденным. Фишер требует делить деньги поровну независимо от результата матча. Тем самым он хочет обезопасить себя финансово на случай поражения. В последние годы фонд делился иначе – две трети новому чемпиону, треть проигравшему. А на заре матчей за мировую корону вообще наблюдалась тираническая картина. Претендент должен был собрать весь призовой фонд, десять тысяч долларов, что по тем временам было неимоверно тяжело. Победитель матча получал все, а неудачник… В одной из опер есть ария с такими словами: «Пусть неудачник плачет!» Мне кажется, это поется в первую очередь о шахматистах… (Снова улыбается).
– Какие деньги сейчас разыгрываются?
– Хотя инфляция свирепствует безостановочно, но деньги за победу теперь совершенно иные. Во всяком случае, так требует Фишер. Спасский на эту тему предпочитает отмалчиваться.
– Просветите нас на сей счет.
– Москва предлагала двести тысяч, – разумеется, в долларах. Нью-Йорк сулит дать порядка полумиллиона. Еще больше обещает найти Белград, хотя назвать точные цифры не могу, пользуюсь доступными мне сведениями из уст югославских гроссмейстеров Матановича, Матуловича и Глигорича. На этом фоне сто двадцать пять тысяч в Рейкьявике, которые озвучила шахматная федерация Исландии, выглядят бледновато. Но я убежден, что играть все-таки будут в Рейкьявике. Бобби очень нужны деньги, но гораздо нужнее ему победа. А там он более всего рассчитывает на успех, это несомненно. Часовой пояс ближе ему, нежели Спасскому. И климат подходящий. Да и болельщиков у него там достаточно. Исландия – первая страна в мире по числу гроссмейстеров на душу населения. Это вам не шуточки…
– Как вы относитесь к подобному прагматизму?
– Таковы реалии времени. Почему чемпион мира по боксу в тяжелом весе может получить за победу в матче пять миллионов долларов, а шахматный чемпион – в тысячу раз меньше его? Это несправедливо! Вот почему мы, ведущие шахматисты, считаем Бобби Фишера, если так можно выразиться, своим председателем профсоюза. Он постоянно повышает ставки за нашу работу. Я вижу в этом справедливость и желаю благополучного разрешения проблемы.
– Кто победит в будущем матче, как вы считаете?
– Победит сильнейший… (Улыбка Таля становится самой широкой за все время нашей беседы). Поставим вопрос иначе: за кого болею я? Разумеется, за Спасского. Более того, я постараюсь помочь ему в этом неимоверно трудном деле. У меня есть свои мысли и идеи на сей счет. С Фишером я неоднократно успешно играл в различных турнирах. Но чемпионский матч – это совсем иное дело. Тут ты каждый день встречаешься с одним и тем же партнером. На первый план резко выходит психологическая устойчивость. Отечественная школа шахмат не должна потерять престиж, слишком многое поставлено на карту. Тем более что политика уже успела вовлечь в сферу своих действенных инструментов большой спорт, несмотря на все уверения в противном. И шахматы не миновала сия участь.
– А если все-таки победит Фишер?
– Не исключено. Ну что ж, придется советским шахматистам поднапрячься и возвратить себе корону в самое ближайшее время. Тем более что у нас есть перспективная молодежь. Двадцатилетний Толик Карпов – вот кого могу назвать прежде всего. Он шахматный принц, то есть уже становился чемпионом мира среди юношей. Почему бы не замахнуться и на взрослый титул? У него прекрасный тренер – гроссмейстер Семен Фурман, мы его называем в своем кругу чемпионом мира по игре белыми фигурами. Настолько сильно Семен Абрамович играет, имея право выступки. Теоретик он отменный. В работе с Анатолием зарекомендовал себя мудрым педагогом. Вдвоем они могут повалить кого угодно, помяните мое слово.
И вообще кладезь отечественных талантов неисчерпаем, как и сама шахматная игра. Правда, Ботвинник обещает создать шахматную программу для электронно-вычислительной машины, которая сможет одолеть человека, поскольку не будет никогда ошибаться в расчетах. Но это произойдет еще не скоро. Так что будем пока учиться у людей, ставших чемпионами мира.
– Благодарю вас, Михаил Нехемьевич, за интервью! Примите от амурских поклонников вашего таланта благодарность за посещение наших краев. Доброго здоровья и новых побед!
– Спасибо! В свою очередь, желаю всем вам успехов в обживании своего сурового и прекрасного Дальнего Востока и высоких достижений за шахматной доской. До свидания!
Амурское радио, зима 1972 г.
P.S. В следующем, 1973 году я вновь встретился с Талем, но уже далеко от Благовещенска. Случилось это в Ленинграде, куда я отправился в командировку по служебным делам. Там в то время как раз проводился межзональный турнир в цикле борьбы за звание чемпиона мира. Лучшие гроссмейстеры планеты шли приступом на «бастионы» Фишера, победившего-таки Спасского в скандальном и напряженнейшем матче в Рейкьявике.
Играл Таль тяжело, сказывалось слабевшее здоровье. Он много курил за доской на сцене, пробовал бросаться в лихие атаки на неприятельских королей, но чего-то не досчитывал до конца и терпел обидные поражения. Подойти к нему в кулуарах мне показалось неэтичным, да и о чем я мог спросить его? Главное он мне сказал, как теперь уже видится через годы, именно тогда, в конференц-зале «Амурки» после сеанса одновременной игры, в котором мне не довелось участвовать как игроку, но посчастливилось как журналисту. За что и говорю спасибо своей беспокойной профессии молодости.
Не ошибся в своем прогнозе Михаил Таль и насчет Анатолия Карпова, ставшего двенадцатым чемпионом мира по шахматам. Умение заглядывать в будущее – в этом ведь шахматы тоже помогают неплохо, не так ли?
2012
В глубину веков
«Глубок, фундаментален труд А. Деревянко, посвященный одной из актуальных тем в современной истории – древнейшей истории Сибири и Дальнего Востока. Молодой историк привлек большое количество новых материалов, в том числе и самые последние, самые новые данные, полученные советскими археологами. Это вполне естественно, потому что сам автор этой работы – участник многих археологических экспедиций, и факты, на которые он ссылается в своем труде и которые приводит, получены им во время этих экспедиций. По существу, труд А. Деревянко – первый в советской исторической науке труд, посвященный истории племен Приамурья каменного века».
Так писал в «Комсомольской правде» 4 ноября 1972 года видный советский ученый академик Н. Г. Басов о нашем земляке Анатолии Деревянко, удостоенном премии Ленинского комсомола за цикл работ по археологии Дальнего Востока.
Коварное дно
Катер тряхнуло так, что в камбузе загремели чашки-кружки.
– Сели. Намертво! – горестно резюмировал капитан Слава Иванов. – Понесла нас нелегкая на этот Гуран! Эй, «лоцман», принимай конец…
«Лоцман» – Володя Пиков – побежал по берегу, словно специально мощенному крупными, один к одному, булыжниками, стал вколачивать ломик. Течение было настолько сильным, что катер накренился и грозил вот-вот перевернуться. С кормы завели трос, закрепили за ломик, и он загудел басовой струной.
– Что будем делать, Анатолий? – спросил капитан руководителя экспедиции.
Деревянко некоторое время молчал, оценивая обстановку, потом сказал решительно:
– Закрепитесь получше. Сниматься – завтра. А я пока схожу посмотрю, что там есть.
…И счастливый берег
Сутки стояли мы немного ниже устья речки Гуран, несущей свою ледяную воду в Амур. Сутки скрежетало днище нашего «Ярославца» о берег, поразительно напоминающий булыжную мостовую. Вполне возможно, что в старину в устье Гурана жили люди. Ну а если так, то плох тот археолог, который упустит случай обследовать предполагаемые места поселений древнего человека.
Рабочие экспедиции Сибирского отделения Академии наук СССР, а проще – первокурсники Благовещенского пединститута, будущие историки Олег Антонов, Леонид Еременко и Сережа Рачкин под руководством Деревянко сделали несколько шурфов, в которых были обнаружены любопытные находки: ножевидные каменные пластины и специально обработанные камни для скалывания этих пластин – нуклеусы, или иначе – ядрища. Поселение, найденное на этом месте, было квалифицировано как неолитическое, существовавшее примерно 3–7 тысяч лет назад. Неподалеку от катера было найдено и поселение более позднего времени, когда племена Верхнего Амура уже научались плавить металл.
– Держи, рыбаки! Может, это вам поможет хоть одну рыбешку поймать, – подзадоривал команду катера Деревянко, показывая кучку превосходных прямоугольных глиняных грузил.
– Смотри-ка! – удивился наш главный рыбак, моторист Витя Бабичев. – Желобки специальные на грузилах, чтобы привязывать было удобно к сетке.
– Да уж, небось пращуры без рыбы не сидели, – добавил Володя Пиков. – Это тебе не баночками пескарей таскать. Тут, брат, пахнет серьезным – таймешком, к примеру, или осетром.