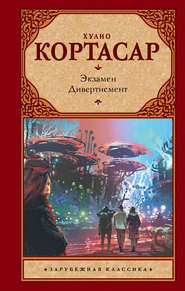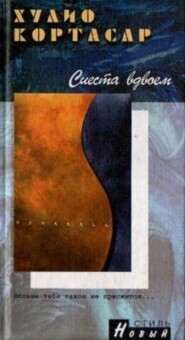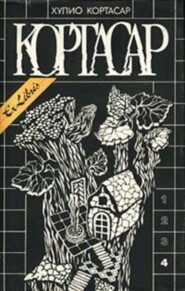По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Игра в классики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
147
Почему же так далеки от богов? Возможно, потому, что спрашиваем.
Ну и что? Человек – животное спрашивающее. В тот день, когда мы по-настоящему научимся задавать вопросы, начнется диалог. А пока вопросы лишь головокружительно отдаляют нас от ответов. Какой эпифании мы ждем, если тонем в самой лживой из свобод? Нам не хватает Novum Organum [[347 - Нового инструмента (лат.).]] правды, надо распахнуть настежь окна и выбросить все на улицу, но перво-наперво надо выбросить само окно и нас заодно с ним. Или погибнуть, или выскочить отсюда опрометью. Это необходимо сделать, как угодно, но сделать. Набраться мужества и явиться в разгар праздника и возложить на голову блистательной хозяйки дома прекрасную зеленую жабу, подарок ночи, и без ужаса взирать на месть лакеев.
(—31) (#AutBody_0fb_31)
148
Из этимологического объяснения, которое Габий Басе дает слову персона.
Мудрое и хитроумное объяснение, по моему суждению, дает Габий Басе в своем трактате «О происхождении слов» слову персона, маска. Он считает, что слово это происходит от глагола personare – сдерживать. Вот как он поясняет свое мнение: «Маска не полностью закрывает лицо, а имеет одно отверстие для рта, и голос не рассеивается в разных направлениях, но теснее сжимается, чтобы выйти через это отверстие, а потому приобретает более громкий и глубокий звук. Итак, поскольку маска делает человеческий голос более звучным и проникновенным, ее назвали словом персона, и вследствие формы самого слова звук о в нем долгий.
Авл Геллий, «Аттические ночи».
(—42) (#AutBody_0fb_42)
149
Я улицей этой шагаю,
А звук шагов отдается
Совсем на другом проспекте.
И там
Я слышу себя,
Шагающего в ночи,
Где
Только туман настоящий.
Октавио Пас
(—54) (#AutBody_0fb_54)
150.
О болящих и страждущих
Из больницы графства Йорк сообщают, что вдовствующая герцогиня Грэфтон, сломавшая ногу в прошлое воскресенье, вчера провела день спокойно.
«Санди-Таймс», Лондон
(—95) (#AutBody_0fb_95)
151.
Мореллиана
Достаточно глянуть простым глазом на поведение кошки или мухи – и почувствуешь, что это новое видение, к которому тяготеет наука, эта деантрепоморфизация, которую настоятельно предлагают вам биологи и физики в качестве единственной возможности для связи с такими явлениями, как инстинкт или растительная жизнь, есть не что иное, как оборвавшийся и затерявшийся в прошлом настойчивый зов, который слышится в некоторых положениях буддизма, в веданте, в суфизме, в западной мистике и заклинает нас раз и навсегда отринуть идею смертности.
(—152) (#AutBody_0fb_152)
152.
Обман
Этот дом, в котором я живу, во всем похож на мой: то же расположение комнат, тот же запах в прихожей, та же мебель и свет, косые лучи утром, мягкие днем, слабые под вечер; все – такое же, даже дорожки, и деревья в саду, и эта старая, полуразвалившаяся калитка, и мощеный дворик.
Часы и минуты проходящего времени тоже похожи на часы и минуты моей жизни. Они бегут, а я думаю: «И в самом деле похожи. До чего же похожи они на те часы, которые я сейчас проживаю!»
Что касается меня, то хотя я и упразднил у себя в доме все отражающие поверхности, тем не менее, когда оконное стекло, без которого не обойтись, пытается возвратить мне мое отражение, я вижу в нем лицо, которое очень похоже на мое. Да, очень похоже, признаю!
Однако пусть не пытаются уверять, будто это я! Вот так! Все здесь фальшиво. Вот когда мне вернут мой дом и мою жизнь, тогда я обрету «и свое истинное лицо.
Жан Тардье
(—143) (#AutBody_0fb_143)
153
– Вы истинный буэнос-айресец, зазеваетесь, они вам подсунут солового.
– А я постараюсь не зевать.
– И правильно сделаете.
Камбасерес, «Сентиментальная музыка»
(—19) (#AutBody_0fb_19)
154
И все-таки ботинки ступили на линолеум, в нос ударил сладковато-острый запах асептики, на кровати, подпертый двумя подушками, сидел старик, нос крюком, словно цеплялся за воздух, удерживая его обладателя в сидячем положении. Белый как полотно, черные круги вокруг ввалившихся глаз. Необычный зигзаг на температурном листе. Зачем они понапрасну беспокоили себя?
Они разговаривали ни о чем: вот, аргентинский друг оказался свидетелем несчастного случая, а французский друг – художник-манчист, все больницы без исключения – мерзость. Морелли, да, писатель.
– Не может быть, – сказал Этьен.
Почему не может быть, весь тираж – как камень в воду, плюп, как теперь узнаешь. Морелли не счел за труд рассказать им, что всего было продано (и подарено) четыреста экземпляров. Да, два в Новой Зеландии, трогательная подробность.
Оливейра дрожащей рукой достал сигарету и посмотрел на сиделку, та утвердительно кивнула и вышла, оставив их между двумя пожелтевшими ширмами. Они сели у изножья постели, подобрав прежде тетради и свернутые в трубочку бумаги.
– Если бы нам попалось в газетах сообщение… – сказал Этьен.
– Было в «Фигаро», – сказал Морелли. – Под телеграммой о мерзком снежном человеке.
– Подумать только, – прошептал наконец Оливейра. – А с другой стороны, может, и к лучшему. А то бы набежало сюда толстозадых старух за автографами с альбомами и домашним желе в баночках.
– Из ревеня, – сказал Морелли. – Самое вкусное. Но может, к лучшему, что не придут.
– А мы, – вставил Оливейра, по-настоящему озабоченный, – если и мы вам в тягость, только скажите. Еще будет случай, и т. д. и т. п. Вы понимаете, что я имею в виду…
Почему же так далеки от богов? Возможно, потому, что спрашиваем.
Ну и что? Человек – животное спрашивающее. В тот день, когда мы по-настоящему научимся задавать вопросы, начнется диалог. А пока вопросы лишь головокружительно отдаляют нас от ответов. Какой эпифании мы ждем, если тонем в самой лживой из свобод? Нам не хватает Novum Organum [[347 - Нового инструмента (лат.).]] правды, надо распахнуть настежь окна и выбросить все на улицу, но перво-наперво надо выбросить само окно и нас заодно с ним. Или погибнуть, или выскочить отсюда опрометью. Это необходимо сделать, как угодно, но сделать. Набраться мужества и явиться в разгар праздника и возложить на голову блистательной хозяйки дома прекрасную зеленую жабу, подарок ночи, и без ужаса взирать на месть лакеев.
(—31) (#AutBody_0fb_31)
148
Из этимологического объяснения, которое Габий Басе дает слову персона.
Мудрое и хитроумное объяснение, по моему суждению, дает Габий Басе в своем трактате «О происхождении слов» слову персона, маска. Он считает, что слово это происходит от глагола personare – сдерживать. Вот как он поясняет свое мнение: «Маска не полностью закрывает лицо, а имеет одно отверстие для рта, и голос не рассеивается в разных направлениях, но теснее сжимается, чтобы выйти через это отверстие, а потому приобретает более громкий и глубокий звук. Итак, поскольку маска делает человеческий голос более звучным и проникновенным, ее назвали словом персона, и вследствие формы самого слова звук о в нем долгий.
Авл Геллий, «Аттические ночи».
(—42) (#AutBody_0fb_42)
149
Я улицей этой шагаю,
А звук шагов отдается
Совсем на другом проспекте.
И там
Я слышу себя,
Шагающего в ночи,
Где
Только туман настоящий.
Октавио Пас
(—54) (#AutBody_0fb_54)
150.
О болящих и страждущих
Из больницы графства Йорк сообщают, что вдовствующая герцогиня Грэфтон, сломавшая ногу в прошлое воскресенье, вчера провела день спокойно.
«Санди-Таймс», Лондон
(—95) (#AutBody_0fb_95)
151.
Мореллиана
Достаточно глянуть простым глазом на поведение кошки или мухи – и почувствуешь, что это новое видение, к которому тяготеет наука, эта деантрепоморфизация, которую настоятельно предлагают вам биологи и физики в качестве единственной возможности для связи с такими явлениями, как инстинкт или растительная жизнь, есть не что иное, как оборвавшийся и затерявшийся в прошлом настойчивый зов, который слышится в некоторых положениях буддизма, в веданте, в суфизме, в западной мистике и заклинает нас раз и навсегда отринуть идею смертности.
(—152) (#AutBody_0fb_152)
152.
Обман
Этот дом, в котором я живу, во всем похож на мой: то же расположение комнат, тот же запах в прихожей, та же мебель и свет, косые лучи утром, мягкие днем, слабые под вечер; все – такое же, даже дорожки, и деревья в саду, и эта старая, полуразвалившаяся калитка, и мощеный дворик.
Часы и минуты проходящего времени тоже похожи на часы и минуты моей жизни. Они бегут, а я думаю: «И в самом деле похожи. До чего же похожи они на те часы, которые я сейчас проживаю!»
Что касается меня, то хотя я и упразднил у себя в доме все отражающие поверхности, тем не менее, когда оконное стекло, без которого не обойтись, пытается возвратить мне мое отражение, я вижу в нем лицо, которое очень похоже на мое. Да, очень похоже, признаю!
Однако пусть не пытаются уверять, будто это я! Вот так! Все здесь фальшиво. Вот когда мне вернут мой дом и мою жизнь, тогда я обрету «и свое истинное лицо.
Жан Тардье
(—143) (#AutBody_0fb_143)
153
– Вы истинный буэнос-айресец, зазеваетесь, они вам подсунут солового.
– А я постараюсь не зевать.
– И правильно сделаете.
Камбасерес, «Сентиментальная музыка»
(—19) (#AutBody_0fb_19)
154
И все-таки ботинки ступили на линолеум, в нос ударил сладковато-острый запах асептики, на кровати, подпертый двумя подушками, сидел старик, нос крюком, словно цеплялся за воздух, удерживая его обладателя в сидячем положении. Белый как полотно, черные круги вокруг ввалившихся глаз. Необычный зигзаг на температурном листе. Зачем они понапрасну беспокоили себя?
Они разговаривали ни о чем: вот, аргентинский друг оказался свидетелем несчастного случая, а французский друг – художник-манчист, все больницы без исключения – мерзость. Морелли, да, писатель.
– Не может быть, – сказал Этьен.
Почему не может быть, весь тираж – как камень в воду, плюп, как теперь узнаешь. Морелли не счел за труд рассказать им, что всего было продано (и подарено) четыреста экземпляров. Да, два в Новой Зеландии, трогательная подробность.
Оливейра дрожащей рукой достал сигарету и посмотрел на сиделку, та утвердительно кивнула и вышла, оставив их между двумя пожелтевшими ширмами. Они сели у изножья постели, подобрав прежде тетради и свернутые в трубочку бумаги.
– Если бы нам попалось в газетах сообщение… – сказал Этьен.
– Было в «Фигаро», – сказал Морелли. – Под телеграммой о мерзком снежном человеке.
– Подумать только, – прошептал наконец Оливейра. – А с другой стороны, может, и к лучшему. А то бы набежало сюда толстозадых старух за автографами с альбомами и домашним желе в баночках.
– Из ревеня, – сказал Морелли. – Самое вкусное. Но может, к лучшему, что не придут.
– А мы, – вставил Оливейра, по-настоящему озабоченный, – если и мы вам в тягость, только скажите. Еще будет случай, и т. д. и т. п. Вы понимаете, что я имею в виду…