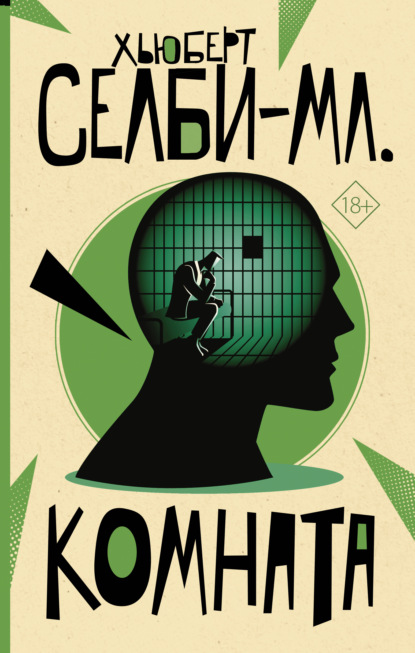По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Комната
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1971
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Он стоял, когда зачитывали обвинение, узнавая слова, но не понимая их смысла, – будто это какой-то другой язык: а именно таковой, соответствующий; бла-блабла… Он стоял слыша, но не слушая. Просто посторонние шумы. Он понимал, что это не сон и он действительно стоял там, но это и все, что он знал на тот момент. Потом судья дал ему слово, и он просто сказал что невиновен. Он едва осознавал присутствие госзащитника рядом, пока тот не сказал ему, что он может сесть. Адвокат сунул ему карандаш и лист бумаги, предложив написать вопросы, которые не стоило обсуждать вслух, пока свидетель давал показания, потому что он не мог слушать его и прокурора одновременно. Он молча взял их, понимая, что это тот самый человек, которому поручено его защищать, при этом он даже не знал его имени. Кто-то, кого он впервые в жизни видит и кто сунул ему какую-то бумажку и карандаш, сказал пару слов, а потом полностью его игнорировал, уставившись в свои бумаги. В общем, он просто сидел молча, пока его защитник таращился в бумаги и время от времени что-то говорил прокурору. Он знал, что тот, кто сидит с ним рядом, уже списал его со счетов, а потому взял в руки карандаш и подался вперед, когда вызвали первого свидетеля.
Он был готов внимательно слушать и впитывать каждое слово и каждый жест свидетеля. Он сидел с карандашом наготове. Чтобы записывать все возможные нестыковки в своем деле, на случай, если его адвокат облажается и пропустит что-то важное, а у него появится оружие, с помощью которого он сам сможет поколебать позицию обвинения.
Первыми свидетелями были арестовавшие его офицеры, и он время от времени начинал было писать, но не мог найти подходящих слов, чтобы точно выразить происходившее в его голове. Чем дольше продолжались свидетельские показания, тем больше росло чувство досады и тем сильней он вжимался в кресло, и вскоре карандаш просто неподвижно лежал на листе бумаги. Он слушал, как судья озвучивает условия для предварительных слушаний, которые утверждались сторонами и вносились в протокол. Затем пошли отказы. В этом было отказано и внесено в протокол; в том было отказано и внесено в протокол… Когда они закончили с условиями и отказами, его адвокат запросил прекращения дела по множеству оснований, цитируя различные дела и решения, а обвинитель возражал и цитировал другие дела и решения. Потом был небольшой перерыв, когда судья удалился для принятия решения по возражениям сторон.
Вернувшись, судья пообщался с обвинителем и защитником касательно отсылок к другим делам, которые они цитировали, потом привел несколько примеров из других дел, а затем отклонил запрос защитника о прекращении дела. После были вопросы и ответы и много другой тупой херни, а его ублюдок защитник просто сидел на жопе ровно, вообще нихрена ни во что не вмешиваясь. Мудила даже не попытался сделать хоть что-то. Полная ерунда. Весь этот сраный процесс был полнейшим фуфлом.
Он не имел представления о том, сколько ему пришлось просидеть в этой уебищной комнате заседаний, но продолжительность и количество вылившегося на него фуфла просто не имели пределов. Наконец этот фарс прекратился и его вывели из зала суда и вернули в камеру.
Он сел на край койки, ничего не чувствуя. Лязгнул засов закрывшейся за его спиной двери. Его глаза налились кровью. Они болели так, будто на веки давил невероятный груз. Свет словно бы царапал их. При этом в теле была энергия. Тело хотело движения. Телу очень хотелось действия. Ему нужно было направление в сторону чего-то……… кого-то. Телу хотелось отскочить прочь от чувства пустоты, которое, казалось, проистекало из боли и рези в глазах и тяжести век. Его голова опустилась на подушку, ноги вытянулись на койке. Рука прикрыла уставшие глаза.
Он попытался было вспомнить происходившее этим днем, но все смешалось. Он знал, что ему следовало напасть на охранника, когда тот открывал дверь этим утром, и разбить его голову о стену, открыть все камеры, чтобы безумные заключенные бросились наутек, убивая каждого мудака в униформе, которого они видели, но боль в глазах помешала этому. Он попытался схватить охранника за шею, чтобы сломать ему позвоночник, но его руки по какой-то причине едва шевелились, и годы и годы спустя они все еще были за мили от его шеи. Он как бы наблюдал за собой со стороны, видя эти едва плывущие по воздуху руки, и орал на них, чтобы они двигались быстрей, быстрей и достали этого охранника, и его тело изгибалось и выкручивалось, чтобы помочь рукам двигаться хоть чуть-чуть проворнее, но они все равно едва-едва шевелились, будто подвешенные в невесомости. Потом, по прошествии бесконечности, он ощутил покалывание в руке, она упала с его лица, и темнота слегка рассеялась. Он с трудом разлепил глаза, поняв, что у него затекла рука, а он пытался заставить ее шевелиться. Он быстро заморгал, поскольку глаза его наполнились светом из плафона на потолке. Его ноги свесились с края койки, а тело приняло вертикальное положение. Несколько мгновений он сидел и тер лицо рукой, потом поднялся и, подойдя к умывальнику, сполоснул лицо холодной водой. Вытерев лицо, он посмотрел в зеркало, изучая прыщ на щеке. Казалось, тот стал еще больше, чувствительней и чуть краснее. Он внимательно его изучил, осторожно потрогал, затем сжал сильнее, пока не ощутил боль как от укола иглой. Убрав палец, он продолжил разглядывать воспалившийся нарыв какое-то время, потом вернулся обратно на койку.
Сидя на краю тюремной кровати, он пытался сообразить, действительно ли он спал, а поняв, что да, попытался понять, сколько именно. Впрочем, какая разница? Время было тем же самым. Еда трижды в день и иногда душ. Дневное время было бессмысленным. Ночью то же самое. Свет постоянно включен. Почти никакой разницы. Разве что днем чуть шумнее. А так то же самое.
Прислонившись спиной к стене, он уперся ногами в край койки. Казалось, совсем недавно его разбудили, чтобы доставить в суд, и он каким-то образом знал, что было где-то 5.30 утра и что его вернули обратно в камеру после 7.30 вечера. 14 часов. Четырнадцать долгих часов, и при этом в памяти почти ничего из них не отложилось. Он ждал стоя, он ждал сидя, ходил из угла в угол, и время тянулось бесконечно, при этом казалось, будто еще совсем недавно охранник разбудил его, сказал, что пора в суд, и бросил ему синюю спецодежду.
Он прогонял в памяти тот день, вспоминая какие-то особенности, детали, каждое сказанное слово, каждый жест, но все воспоминания все равно укладывались в минуты, и эти минуты сводились к 14 часам. Какое-то время он сидел на скамье, потом его спустили вниз на лифте к клеткам. В клетке ждал, пока ему выдадут его одежду для суда, потом ждал, когда прикуют наручниками к цепи в другой клетке, потом они поехали в суд на автобусе, где его поместили в новую клетку и освободили от оков и повели оттуда в зал суда, потом обратно в клетку и на цепь, в автобус и назад, в тюрьму, где его снова ждала череда клеток, пока, в конце концов, он не добрался до своей камеры. И это прибавилось к 14 часам. В тот момент это казалось бесконечным, а сейчас уложилось в минуты.
Он знал, что пробыл в суде очень долго, потому что парни, сидевшие в других клетках в подвале здания суда, спросили, почему его так долго не было, и тем не менее по ощущениям это были минуты. Все эти разговоры. Условия и возражения. Тупые вопросы и ответы. Всего лишь минуты. Часы тупого фуфла, превратившиеся в минуты. Вроде церковного ритуала или еще какой подобной херни. Всем было наплевать, что это за ритуал, – им было нужно лишь, чтобы он продолжался. И это все. Главное, чтобы он не останавливался. Как вечный движок. Ты просто запускаешь его, и он крутится и крутится,
пока ты его не тормознешь. Вот и все, что требуется. Просто остановить это. Именно это мне следовало сделать. Протянуть руку и заткнуть этот фонтан дерьма. Чтобы они увидели. Запихнуть все их слова и весь их ритуал в их блядские глотки. Показать им, какие они мрази. Мне нужно было убрать с дороги этого дебила-защитника и постоять за себя самому. Тупой ублюдок. Бесполезный сукин сын. Взять и перевернуть всю их игру, чтобы они на жопы сели.
Похеру. Это неважно. Это всего лишь предварительные слушания. В следующий раз я их раскатаю. В следующий раз они не смогут сбить меня с толку своими правилами. По-другому все будет. Когда все будет всерьез. Со мной их игры не прокатят.
БАМ – БАМ. Я ТЕБЯ УБИЛ. Нет, не убил. Промазал. Врешь. Я тебе прямо меж глаз пулю всадил,
улыбаясь, похохатывая, растягиваясь на койке, пробегая через парк, хлопая ладонью по ноге, клацая языком о нёбо – всадник и конь одновременно. Потом тебя подстреливают на вершине холма, и ты скатываешься вниз, ползешь за дерево или куст и сам подстреливаешь грязного краснокожего, или шерифа, или кто еще там тебя преследует. Укрывшись за деревом или кустом, стреляешь из карабина, который вытащил из седельного чехла, по преследователю, промахиваешься, и пуля рикошетит от скалы, и еще один всадник спрыгивает с коня и стреляет в ответ, и вскоре все ползают, бегают, прячутся, стреляют. И каждый день перед началом игры каждый выкрикивал, мол, я буду злодеем, а я буду героем, и вот уже буквально через несколько секунд все уже разделились на два лагеря и бежали, скакали и стреляли. С визгом проносились пули, ладони хлопали по ляжкам, рты издавали звуки, имитирующие конский галоп, а они неслись по траве, по кустам, огибая деревья, перепрыгивая сусличьи норы или бревна, резко дергая поводья, чтобы избежать укуса гремучки, а потом валялись, растянувшись на траве у ручья или водопоя, глядя в чистое небо, пока кони утоляли жажду, и сладко пахло травой, когда конь и всадник, передохнув, возобновляли погоню или бегство.
А те битвы на 72-й улице! Сотни детишек собирались на улице с ружьями, понаделав их из картонных ящиков, обрезав их по углу и связав резинкой, и пуляли из кусков картона друг по другу и бежали с воплями в атаку, толкая сделанный из старого скейта и коробки из-под апельсинов катер. А старая миссис МакДермонт думала, что все это по-настоящему, и вызывала копов, а когда те приезжали, все с дикими воплями разбегались кто куда.
Вот это были битвы. Целые дни тратились на изготовление ружей, они кромсали любой кусок картона, который только могли найти, а потом улица снова была переполнена ребятней. И битва происходила снова и снова, а когда у тебя заканчивались боеприпасы, ты просто подбирал все, что тебе нужно, на улице. Картон валялся повсюду. От тротуара до тротуара, хахахахахаха. Вряд ли это нравилось дворникам – этим старым итальянским мужикам с их тележками, метлами и лопатами. Хотя, может быть, им все же проще было убирать картон с улиц, чем собачье дерьмо и лошадиный навоз. Старый Мистер Леон им помогал. Он выходил со своей лопатой и собирал в кучу лучшие куски навоза. При этом всегда ждал, пока птицы не склюют то, на что нацелились. Иногда он там часами стоял и ждал, пока птицы не наедались, потом осматривал, выбирая куски получше и аккуратно сгребал их в кучу. Дворик у него был цветистый, это да, но и смердел изрядно – особенно летом. Все говорили, что у него на заднем дворе роскошный огород. Помидоров много. Но кто знает? Никто его на самом деле не видел. Как бы то ни было, розы у фасада его дома были красивые. Благоухали так, что запах навоза почти не чувствовался по весне. По весне всегда хорошо. А вот июнь тянулся долго. Не могли дождаться каникул. Нету книжек, нету школы, нет учителя-козла. Никак не могли дождаться того времени, когда можно будет пропеть эту песенку. Потом домой, к матери, показать ей дневник. И она всегда была счастлива, когда видела хорошие отметки, но потом начинала спрашивать, почему 3 по прилежанию и 3 по поведению. И не получала ответа. Ты ведь такой хороший мальчик. Почему же ты не можешь получить 5 за поведение и прилежание? И на ее лице досада. А ты пытаешься как-то отбубниться от этого вопроса, пожимаешь плечами, но это не срабатывает. В животе завязывается узел, и подкатывает тошнота, и вот тебе все жарче и жарче и нечего сказать. Вообще. Ничего такого, что кто-то смог бы понять. Ты балаболил на построении или засмеялся в классе, училка пишет замечание, потом ты снова перешептываешься или хихикаешь, и эта сука тупая пишет еще одно и еще, а потом тебе надо объяснять, почему у тебя тройки по поведению и прилежанию. Будто ты в этом виноват.
Нахер. Насрать. Старые морщинистые клизмы. С какого хрена они работают в школе, если так ненавидят детей? Прекрати хихикать. Ты класс отвлекаешь. Черт. Они просто не выносят человеческого смеха. У них есть их правила и недовольные рожи, и это все. Они ничего не желают знать. Если ты не будешь делать того, что они хотят, они испоганят тебе жизнь. Жаль, что их не бывало в тех уличных битвах. Можно было бы подстрелить их из самострелов. Или рогаток.
Да…… рогатки были что надо. Весь секрет – в резине. Старик делал их из камер для колес. Мощные получались рогатки. Боеприпасы к ним делали из старой клеенки, и было чертовски больно, когда в тебя ими попадали. Джон однажды убил кота из рогатки. Зарядил ее стальным шариком и разнес коту голову. Но те бои были крутыми. Крики, визги, беготня, переполненные улицы и пробки.
Игра в полицейских и грабителей – это было нечто. Даже когда дождь шел и тебя не выпускали на улицу. Та квартира на Четвертой авеню. Это был четвертый этаж, и он идеально подходил для того,
чтобы, стоя на коленях у открытого окна, стрелять по копам. Бах. Бах. Он был Диллинджером. А может, Красавчиком Флойдом. Ба-бах. Улица была переполнена копами. Они прятались за машинами, зданиями, фонарными столбами, у подъездов. А дождь заливал улицы и, разбиваясь о подоконник, брызгал на лицо. Они орали ему, чтобы он сдавался. Живым не возьмете, козлы. Бах. Он знал, что окружен сотнями копов, которым не терпелось нашпиговать его пулями, но сдаваться не собирался. Он будет драться до последнего. И прихватит с собой на тот свет несколько врагов – за компанию. Он пригибался, уклоняясь от разнокалиберных пуль, выпущенных в него из револьверов, винтовок и автоматов. Кривил губы и, выплевывая сигаретный бычок из окна, клял мерзких копов на чем свет стоит. Согнувшись, он смотрел на изрешеченные пулями стены и рычал как зверь. Когда обстрел прекратился, он медленно поднял голову и в очередной раз выпустил весь магазин в полицейских.
И тут это случилось. Пуля попала ему в плечо, и он упал на спину, все еще сжимая в руках оружие.
Его мать подскочила на кровати в соседней комнате. Что случилось, сын? Она встает с кровати, поправляет полы халата. Он дергается от ее голоса, слегка напуганный ее внезапным появлением, смотрит на мать, в то время как она пытается справиться с распахивающимся халатом, торопясь к своему сыну. Страх в голосе матери и ее панические движения пугают его, и он не может ответить. Он заворожен размерами ее грудей. Он никогда не задумывался над тем, насколько они огромные. Когда ее тело поворачивалось, ее груди требовались минуты, чтобы догнать его. Он никогда не знал, что у нее большие, темные соски. Даже прикрытые халатом, они были видны сквозь ткань, и он мог видеть их движение, когда мать обнимала его, склонившись. Что случилось, сын? Ничего. Ничего не случилось. Я просто играл. Она обняла его, и он почувствовал ее необычную нежность. Он не помнил, чтобы она была такой мягкой по отношению к нему. Мать взяла его лицо в свои ладони, улыбнулась и, поцеловав в лоб, встала и ушла в спальню одеваться. Он было продолжил игру, но тут же передумал и вместо этого, опершись на подоконник, наблюдал за разбивающимися о тротуар и крыши машин каплями.
Чертов дождь. Всегда начинается внезапно. Ты планируешь какое-нибудь дело или хочешь куда-то пойти, и тут начинается дождь. Постоянно такая херня. Как в тот раз, Четвертого июля, мне разрешили купить фейерверков, и сраный дождь зарядил на весь день. Блядство просто. Один, сука, день в году, и такая вот поебень. Кажется, весь год дождь себя сдерживал, чтобы как следует оторваться именно в День независимости. Во всяком случае, я так помню. Везет мне как утопленнику. Пришлось прятать эти фейерверки от дождя, иначе они бы намокли и я не смог бы их запустить. И ладно бы дождь обрушился ливнем, а потом прекратился – нет, он как последняя сволочь, мерзко капал весь день. Естественно, на следующий день стояла ясная погода. Чертово солнце нагло сияло весь день.
Он сидит на краю койки, мускулы напряжены, зубы сжаты, взгляд сверлит стену, голова трясется – полный пиздец. Нахуй, нахуй весь этот гнилой бардак – он подергивается от всепоглощающего желания разнести что-то или кого-то в клочья. Он встал перед зеркалом и некоторое время смотрел на свое отражение, чуть приподняв руки, потом наклонился ниже и осмотрел красное пятнышко на щеке. Попробовал его выдавить. Почувствовал боль. Ничего не вышло. Прыщ не стал больше или меньше. Он просто болел.
Он обернулся и оглядел камеру, будто ждал, что она что-то ему скажет. Что угодно. Давай, падла, скажи что-нибудь, и я твое ебало разнесу. Башку твою расшибу. Он смотрел стене прямо в глаза с вызовом, ожидая реакции. Любого движения. Скажи хоть слово, и я тебя в порошок сотру. Ох, как же хочется, чтобы там была физиономия, в которую можно заорать. Которая могла бы сказать хоть что-нибудь, а он мог бы взять эти слова и запихнуть этой физиономии обратно в глотку. Или пробить в душу, или пнуть чертову дверь
вот дерьмо, смотрит он на стену
дерьмо!
Он сел на койку, позволил своему телу слегка расслабиться и покачал головой с отвращением. Это пиздец. Это просто пиздец. Он знал, где находился. Это уж без сомнений. Без фуфла и пуха. Он был там, где был. Так же, как та стена. И эта. Так же, как и дверь, и потолок, и пол, и решетка на окне, и толчок в углу, и умывальник на стене, и этот чертов прыщ на щеке. И эта паршивая койка, на которой он сидит. Это все реально. По-настоящему. Да, он понимал, где находится. Яснее ясного. Вот только так хотелось проснуться – и чтобы этого не было. Закрыть глаза и продремать все это. Чтоб даже не ложиться. Просто закрываешь глаза, и вся эта мерзость исчезает. Открываешь глаза и выходишь. Не важно, с открытыми глазами или закрытыми – просто выходишь прямо через эту блядскую дверь. Все. Бай-бай, детка.
Ох, бля, растягивается он на койке, прикрыв глаза рукой. Выключили бы они свет хоть ненадолго. Хоть на пять минут. И все. Пять минут, чтобы отдохнуть.
Отдохнуть? Не смешите. Да они скорей умрут, чем позволят тебе отдохнуть. Немного темноты, вот и все. Просто немного темноты. Разве я многого прошу? Они бы даже денег сэкономили, если бы свет выключили. Полная темнота, в которой вообще ничего не видно. Ни углов. Ни стен. Ни окна. Ничего. Большое черное ничто. А они ведут себя так, будто ты мир в подарок хочешь. А мне всего лишь нужно большое черное ничто. Даже не пикну. Но они любят свет. Господь всемогущий, они его обожают! Они дадут тебе любой оттенок серого, существующий в мире, но о черном даже не заикайся. Никаких теней. Обязательное освещение по углам. Без этого никак. Достаточно, чтобы ты не мог отдохнуть. В этом вся суть. Главное, чтобы ты не отдыхал. Они не хотят, чтобы твое время прошло быстрее. Не дай бог ты уснешь – дверь камеры тут же откроется – мрази конченые.
Он встал и побрел в столовую. Свет был ярким. Подносы сияли.
Он встал в очередь с другими, медленно – дюйм за дюймом – двигаясь вдоль стены. Все было блеклым, мутным. Разговоры. Еда. Люди. Мутное. Все. Закончив с едой, он вернулся в свою камеру, ополоснул лицо водой, вытер его, сел на койку и стал ждать, когда дверь закроется. Он понятия не имел, о чем думает, если вообще думал о чем-то, но он чувствовал внутри себя некое движение. В руках и ногах он ощущал легкое покалывание. Ему чертовски хотелось, чтобы они побыстрей заперли дверь его камеры. Они тут как тут, каждый раз, когда ты пошел не туда или не туда посмотрел, а теперь они, видите ли, решили не торопиться его запирать. Где их черти носят? Эта хрень давно уже должна быть заперта. Охренели вообще. Сколько можно сидеть и ждать, пока какой-то тормозной сукин сын закроет эту проклятую дверь? Уже часы прошли после посещения столовой. Когда чертова дверь закрыта, а тебе хочется, чтобы ее открыли, – хрен дождешься. И тут – ни с того, ни с сего – они ее не закрывают. Все делают для того, чтобы у тебя яйца в узел заворачивались, мрази гнилые, – его кулаки и челюсти сжимаются все сильнее и сильнее. О чем бы ты их ни попросил, будь уверен, они сделают наоборот. Вообще неважно, о чем ты их попросишь, они этого не сделают, если… дверь с лязгом закрывается.
Какое-то время он сверлит ее взглядом,
потом с размаху бьет правой рукой по подушке. Он с рыком хватает подушку левой рукой и бьет ее правой снова, и снова, и снова, и снова, потом хватает ее обеими руками, будто за чей-то кадык, сжимает, крутит и рычит, чувствуя ком в животе. Потом он швырнул подушку в стену, бросился за ней следом, кинул ее обратно на койку, и, придавив левой рукой, будто за горло, он бил и бил ее, будто разбивал в кашу чье-то лицо, затем, подняв над головой, из всех сил ударил ею по стене и бил, бил, бил, но его кулаки утопали в подушке, не встречая сопротивления, поэтому он прижал ее к матрасу и бил, бил, бил, слыша глухие звуки ударов своего кулака, и снова, и снова, и снова бил, бил, бил свою подушку.
Затем он остановился и, посмотрев с отвращением на подушку, тыльной стороной руки отшвырнул ее в другой конец койки. Он тяжело дышал, но ком, который был в груди и животе, исчез. Ублюдки. Мерзкие, блядские ублюдки. Его дыхание успокоилось, он дотянулся до подушки, схватил ее, смял в ком и сунул под голову, растянувшись на койке. Его глазам захотелось закрыться, и он позволим им это, прикрыв их рукой от света. Он вжимал голову поглубже в смятую подушку, а темнеющая серость успокаивала его глаза. Он уснул.
Он сидел в зале суда со Стейси Лори. Он был хорошо одет и уверен в себе. Когда объявили слушание его дела, он проследовал за адвокатом на свое место. Когда зачитывали обвинения, он спокойно стоял, выпрямив спину, не признавая за собой вины, затем сел и внимал процедуре предварительных слушаний. Открывающие дело формальности прошли быстро и четко. Когда сторона обвинения закончила допрос первого свидетеля – арестовавшего его офицера полиции, – Стейси Лори встал и вышел в середину зала, остановившись недалеко от свидетельской трибуны. Несколько минут он спокойным и ровным голосом опрашивал свидетеля. Закончив с вопросами, он обратился к суду, запросив снятие обвинений, процитировав дело Штат против Рубенса (1958; 173,20.5). На этом основании суд снял все обвинения, и дело было закрыто.
Он вышел за адвокатом из зала суда в коридор, где к ним присоединился Дональд Престон, пожавший им руки. Престон, положив ему на плечо руку, поинтересовался, как он себя чувствовал в качестве свободного человека. По правде говоря, немного ошарашивает. Все произошло так быстро. Трудно поверить в то, что все это позади.
Они сели за стол в отдельном кабинете тихого и очень приличного ресторана. Это была маленькая комната, расположенная вдали от основного зала, со стенами, обшитыми дубом. Скатерть была белой, а солнечный свет фильтровался окнами с затемненными стеклами. Он был возбужден и в то же время без проблем сохранял самообладание. Когда им принесли заказанные коктейли, они выпили за успех их будущей кампании. Он с улыбкой сказал, что за это точно выпьет, и все рассмеялись. Затем Престон отметил его мужество, и он скромно улыбнулся в ответ.
Он чувствовал себя как дома в роскошном офисе Престона, где они с энтузиазмом обсуждали грядущую кампанию. Он очень хотел услышать их планы и поделиться собственными идеями. Теперь, когда все формальности с законом были улажены, его мозг формулировал новые идеи с потрясающей четкостью.
Как я уже сказал, один из моих репортеров – один из лучших – присутствовал на слушаниях и уже работает над статьей. Когда он закончит, мы возьмем у вас интервью. Много времени это не займет. Ему нужно лишь донести до читателей ваши мысли и реакции. Сам репортаж появится в завтрашней газете, а интервью выйдет в воскресном выпуске. Интервью длинным не будет – это я уже говорил – буквально две – три страницы. Вы же понимаете, что не стоит вываливать публике все сразу. Если мы так поступим, то людям это быстро наскучит (он согласно кивнул) и их энтузиазм пропадет. Между этими двумя материалами я опубликую заявление или, если вам угодно, манифест, объясняющий цели кампании. Естественно, два-три раза в неделю будут выходить новые материалы на эту тему, поднимающие острые вопросы. Таким образом, интерес публики будет постоянно подогреваться.
А в промежутках между подачей материалов я буду писать статьи в юридический журнал с обращениями к различным гражданским и профессиональным организациям.
Звучит отлично. Просто замечательно. Есть, правда, один момент, который я особо хотел бы упомянуть. Он помолчал секунду, потом чуть подался вперед в своем кресле. Я думаю, нам стоило бы посвятить эту кампанию борьбе со всеми проявлениями авторитарного деспотизма. Моя мысль в том, что есть множество проявлений произвола властей – со стороны полиции, политиков, профсоюзов, банкиров, в школах, тюрьмах и бог знает где еще. Также, мне кажется, если кампания окажется длительной, люди потеряют к ней интерес, однако с правильно выдержанными интервалами – особенно когда возникнет нехватка свежих новостей – вы всегда сможете перейти к другому аспекту этого движения и разоблачить еще какое-нибудь из авторитарных преступлений, совершающихся где-нибудь в большом мире.
По тому, как горячо они согласились с его предложением, было очевидно, что оно не просто им понравилось – они так же поняли, что он не руководствовался никакими мотивами личной мести.
Репортер садится напротив, расположив между ними микрофон портативного магнитофона.
Вопрос: Во-первых, хотелось бы спросить, каково это – быть снова свободным?
Ответ: Прекрасно (он улыбается), просто замечательно. У меня не хватит слов, чтобы выразить свою благодарность господам Престону и Лори за их помощь.
В: Как вам удалось с ними связаться?
О: Ну (он слегка откидывается назад в своем кресле с задумчивым выражением лица, таким, чтобы не выглядеть чересчур загадочным, при этом желая донести до репортера серьезность этого вопроса. Вопроса, на который без должного обдумывания не отвечают. Когда по лицу репортера он увидел, что тот осознал и понимает, что он вовсе не играет роль, и что вопрос действительно серьезный и деликатный, он снова подался вперед), боюсь, я не могу раскрыть всех подробностей того, как мне удалось выйти на связь с этими джентльменами. Могу лишь сказать, что у меня получилось связаться с газетой и таким образом вовлечь в это дело уважаемых мистера Престона и мистера Лори.
Он стоял, когда зачитывали обвинение, узнавая слова, но не понимая их смысла, – будто это какой-то другой язык: а именно таковой, соответствующий; бла-блабла… Он стоял слыша, но не слушая. Просто посторонние шумы. Он понимал, что это не сон и он действительно стоял там, но это и все, что он знал на тот момент. Потом судья дал ему слово, и он просто сказал что невиновен. Он едва осознавал присутствие госзащитника рядом, пока тот не сказал ему, что он может сесть. Адвокат сунул ему карандаш и лист бумаги, предложив написать вопросы, которые не стоило обсуждать вслух, пока свидетель давал показания, потому что он не мог слушать его и прокурора одновременно. Он молча взял их, понимая, что это тот самый человек, которому поручено его защищать, при этом он даже не знал его имени. Кто-то, кого он впервые в жизни видит и кто сунул ему какую-то бумажку и карандаш, сказал пару слов, а потом полностью его игнорировал, уставившись в свои бумаги. В общем, он просто сидел молча, пока его защитник таращился в бумаги и время от времени что-то говорил прокурору. Он знал, что тот, кто сидит с ним рядом, уже списал его со счетов, а потому взял в руки карандаш и подался вперед, когда вызвали первого свидетеля.
Он был готов внимательно слушать и впитывать каждое слово и каждый жест свидетеля. Он сидел с карандашом наготове. Чтобы записывать все возможные нестыковки в своем деле, на случай, если его адвокат облажается и пропустит что-то важное, а у него появится оружие, с помощью которого он сам сможет поколебать позицию обвинения.
Первыми свидетелями были арестовавшие его офицеры, и он время от времени начинал было писать, но не мог найти подходящих слов, чтобы точно выразить происходившее в его голове. Чем дольше продолжались свидетельские показания, тем больше росло чувство досады и тем сильней он вжимался в кресло, и вскоре карандаш просто неподвижно лежал на листе бумаги. Он слушал, как судья озвучивает условия для предварительных слушаний, которые утверждались сторонами и вносились в протокол. Затем пошли отказы. В этом было отказано и внесено в протокол; в том было отказано и внесено в протокол… Когда они закончили с условиями и отказами, его адвокат запросил прекращения дела по множеству оснований, цитируя различные дела и решения, а обвинитель возражал и цитировал другие дела и решения. Потом был небольшой перерыв, когда судья удалился для принятия решения по возражениям сторон.
Вернувшись, судья пообщался с обвинителем и защитником касательно отсылок к другим делам, которые они цитировали, потом привел несколько примеров из других дел, а затем отклонил запрос защитника о прекращении дела. После были вопросы и ответы и много другой тупой херни, а его ублюдок защитник просто сидел на жопе ровно, вообще нихрена ни во что не вмешиваясь. Мудила даже не попытался сделать хоть что-то. Полная ерунда. Весь этот сраный процесс был полнейшим фуфлом.
Он не имел представления о том, сколько ему пришлось просидеть в этой уебищной комнате заседаний, но продолжительность и количество вылившегося на него фуфла просто не имели пределов. Наконец этот фарс прекратился и его вывели из зала суда и вернули в камеру.
Он сел на край койки, ничего не чувствуя. Лязгнул засов закрывшейся за его спиной двери. Его глаза налились кровью. Они болели так, будто на веки давил невероятный груз. Свет словно бы царапал их. При этом в теле была энергия. Тело хотело движения. Телу очень хотелось действия. Ему нужно было направление в сторону чего-то……… кого-то. Телу хотелось отскочить прочь от чувства пустоты, которое, казалось, проистекало из боли и рези в глазах и тяжести век. Его голова опустилась на подушку, ноги вытянулись на койке. Рука прикрыла уставшие глаза.
Он попытался было вспомнить происходившее этим днем, но все смешалось. Он знал, что ему следовало напасть на охранника, когда тот открывал дверь этим утром, и разбить его голову о стену, открыть все камеры, чтобы безумные заключенные бросились наутек, убивая каждого мудака в униформе, которого они видели, но боль в глазах помешала этому. Он попытался схватить охранника за шею, чтобы сломать ему позвоночник, но его руки по какой-то причине едва шевелились, и годы и годы спустя они все еще были за мили от его шеи. Он как бы наблюдал за собой со стороны, видя эти едва плывущие по воздуху руки, и орал на них, чтобы они двигались быстрей, быстрей и достали этого охранника, и его тело изгибалось и выкручивалось, чтобы помочь рукам двигаться хоть чуть-чуть проворнее, но они все равно едва-едва шевелились, будто подвешенные в невесомости. Потом, по прошествии бесконечности, он ощутил покалывание в руке, она упала с его лица, и темнота слегка рассеялась. Он с трудом разлепил глаза, поняв, что у него затекла рука, а он пытался заставить ее шевелиться. Он быстро заморгал, поскольку глаза его наполнились светом из плафона на потолке. Его ноги свесились с края койки, а тело приняло вертикальное положение. Несколько мгновений он сидел и тер лицо рукой, потом поднялся и, подойдя к умывальнику, сполоснул лицо холодной водой. Вытерев лицо, он посмотрел в зеркало, изучая прыщ на щеке. Казалось, тот стал еще больше, чувствительней и чуть краснее. Он внимательно его изучил, осторожно потрогал, затем сжал сильнее, пока не ощутил боль как от укола иглой. Убрав палец, он продолжил разглядывать воспалившийся нарыв какое-то время, потом вернулся обратно на койку.
Сидя на краю тюремной кровати, он пытался сообразить, действительно ли он спал, а поняв, что да, попытался понять, сколько именно. Впрочем, какая разница? Время было тем же самым. Еда трижды в день и иногда душ. Дневное время было бессмысленным. Ночью то же самое. Свет постоянно включен. Почти никакой разницы. Разве что днем чуть шумнее. А так то же самое.
Прислонившись спиной к стене, он уперся ногами в край койки. Казалось, совсем недавно его разбудили, чтобы доставить в суд, и он каким-то образом знал, что было где-то 5.30 утра и что его вернули обратно в камеру после 7.30 вечера. 14 часов. Четырнадцать долгих часов, и при этом в памяти почти ничего из них не отложилось. Он ждал стоя, он ждал сидя, ходил из угла в угол, и время тянулось бесконечно, при этом казалось, будто еще совсем недавно охранник разбудил его, сказал, что пора в суд, и бросил ему синюю спецодежду.
Он прогонял в памяти тот день, вспоминая какие-то особенности, детали, каждое сказанное слово, каждый жест, но все воспоминания все равно укладывались в минуты, и эти минуты сводились к 14 часам. Какое-то время он сидел на скамье, потом его спустили вниз на лифте к клеткам. В клетке ждал, пока ему выдадут его одежду для суда, потом ждал, когда прикуют наручниками к цепи в другой клетке, потом они поехали в суд на автобусе, где его поместили в новую клетку и освободили от оков и повели оттуда в зал суда, потом обратно в клетку и на цепь, в автобус и назад, в тюрьму, где его снова ждала череда клеток, пока, в конце концов, он не добрался до своей камеры. И это прибавилось к 14 часам. В тот момент это казалось бесконечным, а сейчас уложилось в минуты.
Он знал, что пробыл в суде очень долго, потому что парни, сидевшие в других клетках в подвале здания суда, спросили, почему его так долго не было, и тем не менее по ощущениям это были минуты. Все эти разговоры. Условия и возражения. Тупые вопросы и ответы. Всего лишь минуты. Часы тупого фуфла, превратившиеся в минуты. Вроде церковного ритуала или еще какой подобной херни. Всем было наплевать, что это за ритуал, – им было нужно лишь, чтобы он продолжался. И это все. Главное, чтобы он не останавливался. Как вечный движок. Ты просто запускаешь его, и он крутится и крутится,
пока ты его не тормознешь. Вот и все, что требуется. Просто остановить это. Именно это мне следовало сделать. Протянуть руку и заткнуть этот фонтан дерьма. Чтобы они увидели. Запихнуть все их слова и весь их ритуал в их блядские глотки. Показать им, какие они мрази. Мне нужно было убрать с дороги этого дебила-защитника и постоять за себя самому. Тупой ублюдок. Бесполезный сукин сын. Взять и перевернуть всю их игру, чтобы они на жопы сели.
Похеру. Это неважно. Это всего лишь предварительные слушания. В следующий раз я их раскатаю. В следующий раз они не смогут сбить меня с толку своими правилами. По-другому все будет. Когда все будет всерьез. Со мной их игры не прокатят.
БАМ – БАМ. Я ТЕБЯ УБИЛ. Нет, не убил. Промазал. Врешь. Я тебе прямо меж глаз пулю всадил,
улыбаясь, похохатывая, растягиваясь на койке, пробегая через парк, хлопая ладонью по ноге, клацая языком о нёбо – всадник и конь одновременно. Потом тебя подстреливают на вершине холма, и ты скатываешься вниз, ползешь за дерево или куст и сам подстреливаешь грязного краснокожего, или шерифа, или кто еще там тебя преследует. Укрывшись за деревом или кустом, стреляешь из карабина, который вытащил из седельного чехла, по преследователю, промахиваешься, и пуля рикошетит от скалы, и еще один всадник спрыгивает с коня и стреляет в ответ, и вскоре все ползают, бегают, прячутся, стреляют. И каждый день перед началом игры каждый выкрикивал, мол, я буду злодеем, а я буду героем, и вот уже буквально через несколько секунд все уже разделились на два лагеря и бежали, скакали и стреляли. С визгом проносились пули, ладони хлопали по ляжкам, рты издавали звуки, имитирующие конский галоп, а они неслись по траве, по кустам, огибая деревья, перепрыгивая сусличьи норы или бревна, резко дергая поводья, чтобы избежать укуса гремучки, а потом валялись, растянувшись на траве у ручья или водопоя, глядя в чистое небо, пока кони утоляли жажду, и сладко пахло травой, когда конь и всадник, передохнув, возобновляли погоню или бегство.
А те битвы на 72-й улице! Сотни детишек собирались на улице с ружьями, понаделав их из картонных ящиков, обрезав их по углу и связав резинкой, и пуляли из кусков картона друг по другу и бежали с воплями в атаку, толкая сделанный из старого скейта и коробки из-под апельсинов катер. А старая миссис МакДермонт думала, что все это по-настоящему, и вызывала копов, а когда те приезжали, все с дикими воплями разбегались кто куда.
Вот это были битвы. Целые дни тратились на изготовление ружей, они кромсали любой кусок картона, который только могли найти, а потом улица снова была переполнена ребятней. И битва происходила снова и снова, а когда у тебя заканчивались боеприпасы, ты просто подбирал все, что тебе нужно, на улице. Картон валялся повсюду. От тротуара до тротуара, хахахахахаха. Вряд ли это нравилось дворникам – этим старым итальянским мужикам с их тележками, метлами и лопатами. Хотя, может быть, им все же проще было убирать картон с улиц, чем собачье дерьмо и лошадиный навоз. Старый Мистер Леон им помогал. Он выходил со своей лопатой и собирал в кучу лучшие куски навоза. При этом всегда ждал, пока птицы не склюют то, на что нацелились. Иногда он там часами стоял и ждал, пока птицы не наедались, потом осматривал, выбирая куски получше и аккуратно сгребал их в кучу. Дворик у него был цветистый, это да, но и смердел изрядно – особенно летом. Все говорили, что у него на заднем дворе роскошный огород. Помидоров много. Но кто знает? Никто его на самом деле не видел. Как бы то ни было, розы у фасада его дома были красивые. Благоухали так, что запах навоза почти не чувствовался по весне. По весне всегда хорошо. А вот июнь тянулся долго. Не могли дождаться каникул. Нету книжек, нету школы, нет учителя-козла. Никак не могли дождаться того времени, когда можно будет пропеть эту песенку. Потом домой, к матери, показать ей дневник. И она всегда была счастлива, когда видела хорошие отметки, но потом начинала спрашивать, почему 3 по прилежанию и 3 по поведению. И не получала ответа. Ты ведь такой хороший мальчик. Почему же ты не можешь получить 5 за поведение и прилежание? И на ее лице досада. А ты пытаешься как-то отбубниться от этого вопроса, пожимаешь плечами, но это не срабатывает. В животе завязывается узел, и подкатывает тошнота, и вот тебе все жарче и жарче и нечего сказать. Вообще. Ничего такого, что кто-то смог бы понять. Ты балаболил на построении или засмеялся в классе, училка пишет замечание, потом ты снова перешептываешься или хихикаешь, и эта сука тупая пишет еще одно и еще, а потом тебе надо объяснять, почему у тебя тройки по поведению и прилежанию. Будто ты в этом виноват.
Нахер. Насрать. Старые морщинистые клизмы. С какого хрена они работают в школе, если так ненавидят детей? Прекрати хихикать. Ты класс отвлекаешь. Черт. Они просто не выносят человеческого смеха. У них есть их правила и недовольные рожи, и это все. Они ничего не желают знать. Если ты не будешь делать того, что они хотят, они испоганят тебе жизнь. Жаль, что их не бывало в тех уличных битвах. Можно было бы подстрелить их из самострелов. Или рогаток.
Да…… рогатки были что надо. Весь секрет – в резине. Старик делал их из камер для колес. Мощные получались рогатки. Боеприпасы к ним делали из старой клеенки, и было чертовски больно, когда в тебя ими попадали. Джон однажды убил кота из рогатки. Зарядил ее стальным шариком и разнес коту голову. Но те бои были крутыми. Крики, визги, беготня, переполненные улицы и пробки.
Игра в полицейских и грабителей – это было нечто. Даже когда дождь шел и тебя не выпускали на улицу. Та квартира на Четвертой авеню. Это был четвертый этаж, и он идеально подходил для того,
чтобы, стоя на коленях у открытого окна, стрелять по копам. Бах. Бах. Он был Диллинджером. А может, Красавчиком Флойдом. Ба-бах. Улица была переполнена копами. Они прятались за машинами, зданиями, фонарными столбами, у подъездов. А дождь заливал улицы и, разбиваясь о подоконник, брызгал на лицо. Они орали ему, чтобы он сдавался. Живым не возьмете, козлы. Бах. Он знал, что окружен сотнями копов, которым не терпелось нашпиговать его пулями, но сдаваться не собирался. Он будет драться до последнего. И прихватит с собой на тот свет несколько врагов – за компанию. Он пригибался, уклоняясь от разнокалиберных пуль, выпущенных в него из револьверов, винтовок и автоматов. Кривил губы и, выплевывая сигаретный бычок из окна, клял мерзких копов на чем свет стоит. Согнувшись, он смотрел на изрешеченные пулями стены и рычал как зверь. Когда обстрел прекратился, он медленно поднял голову и в очередной раз выпустил весь магазин в полицейских.
И тут это случилось. Пуля попала ему в плечо, и он упал на спину, все еще сжимая в руках оружие.
Его мать подскочила на кровати в соседней комнате. Что случилось, сын? Она встает с кровати, поправляет полы халата. Он дергается от ее голоса, слегка напуганный ее внезапным появлением, смотрит на мать, в то время как она пытается справиться с распахивающимся халатом, торопясь к своему сыну. Страх в голосе матери и ее панические движения пугают его, и он не может ответить. Он заворожен размерами ее грудей. Он никогда не задумывался над тем, насколько они огромные. Когда ее тело поворачивалось, ее груди требовались минуты, чтобы догнать его. Он никогда не знал, что у нее большие, темные соски. Даже прикрытые халатом, они были видны сквозь ткань, и он мог видеть их движение, когда мать обнимала его, склонившись. Что случилось, сын? Ничего. Ничего не случилось. Я просто играл. Она обняла его, и он почувствовал ее необычную нежность. Он не помнил, чтобы она была такой мягкой по отношению к нему. Мать взяла его лицо в свои ладони, улыбнулась и, поцеловав в лоб, встала и ушла в спальню одеваться. Он было продолжил игру, но тут же передумал и вместо этого, опершись на подоконник, наблюдал за разбивающимися о тротуар и крыши машин каплями.
Чертов дождь. Всегда начинается внезапно. Ты планируешь какое-нибудь дело или хочешь куда-то пойти, и тут начинается дождь. Постоянно такая херня. Как в тот раз, Четвертого июля, мне разрешили купить фейерверков, и сраный дождь зарядил на весь день. Блядство просто. Один, сука, день в году, и такая вот поебень. Кажется, весь год дождь себя сдерживал, чтобы как следует оторваться именно в День независимости. Во всяком случае, я так помню. Везет мне как утопленнику. Пришлось прятать эти фейерверки от дождя, иначе они бы намокли и я не смог бы их запустить. И ладно бы дождь обрушился ливнем, а потом прекратился – нет, он как последняя сволочь, мерзко капал весь день. Естественно, на следующий день стояла ясная погода. Чертово солнце нагло сияло весь день.
Он сидит на краю койки, мускулы напряжены, зубы сжаты, взгляд сверлит стену, голова трясется – полный пиздец. Нахуй, нахуй весь этот гнилой бардак – он подергивается от всепоглощающего желания разнести что-то или кого-то в клочья. Он встал перед зеркалом и некоторое время смотрел на свое отражение, чуть приподняв руки, потом наклонился ниже и осмотрел красное пятнышко на щеке. Попробовал его выдавить. Почувствовал боль. Ничего не вышло. Прыщ не стал больше или меньше. Он просто болел.
Он обернулся и оглядел камеру, будто ждал, что она что-то ему скажет. Что угодно. Давай, падла, скажи что-нибудь, и я твое ебало разнесу. Башку твою расшибу. Он смотрел стене прямо в глаза с вызовом, ожидая реакции. Любого движения. Скажи хоть слово, и я тебя в порошок сотру. Ох, как же хочется, чтобы там была физиономия, в которую можно заорать. Которая могла бы сказать хоть что-нибудь, а он мог бы взять эти слова и запихнуть этой физиономии обратно в глотку. Или пробить в душу, или пнуть чертову дверь
вот дерьмо, смотрит он на стену
дерьмо!
Он сел на койку, позволил своему телу слегка расслабиться и покачал головой с отвращением. Это пиздец. Это просто пиздец. Он знал, где находился. Это уж без сомнений. Без фуфла и пуха. Он был там, где был. Так же, как та стена. И эта. Так же, как и дверь, и потолок, и пол, и решетка на окне, и толчок в углу, и умывальник на стене, и этот чертов прыщ на щеке. И эта паршивая койка, на которой он сидит. Это все реально. По-настоящему. Да, он понимал, где находится. Яснее ясного. Вот только так хотелось проснуться – и чтобы этого не было. Закрыть глаза и продремать все это. Чтоб даже не ложиться. Просто закрываешь глаза, и вся эта мерзость исчезает. Открываешь глаза и выходишь. Не важно, с открытыми глазами или закрытыми – просто выходишь прямо через эту блядскую дверь. Все. Бай-бай, детка.
Ох, бля, растягивается он на койке, прикрыв глаза рукой. Выключили бы они свет хоть ненадолго. Хоть на пять минут. И все. Пять минут, чтобы отдохнуть.
Отдохнуть? Не смешите. Да они скорей умрут, чем позволят тебе отдохнуть. Немного темноты, вот и все. Просто немного темноты. Разве я многого прошу? Они бы даже денег сэкономили, если бы свет выключили. Полная темнота, в которой вообще ничего не видно. Ни углов. Ни стен. Ни окна. Ничего. Большое черное ничто. А они ведут себя так, будто ты мир в подарок хочешь. А мне всего лишь нужно большое черное ничто. Даже не пикну. Но они любят свет. Господь всемогущий, они его обожают! Они дадут тебе любой оттенок серого, существующий в мире, но о черном даже не заикайся. Никаких теней. Обязательное освещение по углам. Без этого никак. Достаточно, чтобы ты не мог отдохнуть. В этом вся суть. Главное, чтобы ты не отдыхал. Они не хотят, чтобы твое время прошло быстрее. Не дай бог ты уснешь – дверь камеры тут же откроется – мрази конченые.
Он встал и побрел в столовую. Свет был ярким. Подносы сияли.
Он встал в очередь с другими, медленно – дюйм за дюймом – двигаясь вдоль стены. Все было блеклым, мутным. Разговоры. Еда. Люди. Мутное. Все. Закончив с едой, он вернулся в свою камеру, ополоснул лицо водой, вытер его, сел на койку и стал ждать, когда дверь закроется. Он понятия не имел, о чем думает, если вообще думал о чем-то, но он чувствовал внутри себя некое движение. В руках и ногах он ощущал легкое покалывание. Ему чертовски хотелось, чтобы они побыстрей заперли дверь его камеры. Они тут как тут, каждый раз, когда ты пошел не туда или не туда посмотрел, а теперь они, видите ли, решили не торопиться его запирать. Где их черти носят? Эта хрень давно уже должна быть заперта. Охренели вообще. Сколько можно сидеть и ждать, пока какой-то тормозной сукин сын закроет эту проклятую дверь? Уже часы прошли после посещения столовой. Когда чертова дверь закрыта, а тебе хочется, чтобы ее открыли, – хрен дождешься. И тут – ни с того, ни с сего – они ее не закрывают. Все делают для того, чтобы у тебя яйца в узел заворачивались, мрази гнилые, – его кулаки и челюсти сжимаются все сильнее и сильнее. О чем бы ты их ни попросил, будь уверен, они сделают наоборот. Вообще неважно, о чем ты их попросишь, они этого не сделают, если… дверь с лязгом закрывается.
Какое-то время он сверлит ее взглядом,
потом с размаху бьет правой рукой по подушке. Он с рыком хватает подушку левой рукой и бьет ее правой снова, и снова, и снова, и снова, потом хватает ее обеими руками, будто за чей-то кадык, сжимает, крутит и рычит, чувствуя ком в животе. Потом он швырнул подушку в стену, бросился за ней следом, кинул ее обратно на койку, и, придавив левой рукой, будто за горло, он бил и бил ее, будто разбивал в кашу чье-то лицо, затем, подняв над головой, из всех сил ударил ею по стене и бил, бил, бил, но его кулаки утопали в подушке, не встречая сопротивления, поэтому он прижал ее к матрасу и бил, бил, бил, слыша глухие звуки ударов своего кулака, и снова, и снова, и снова бил, бил, бил свою подушку.
Затем он остановился и, посмотрев с отвращением на подушку, тыльной стороной руки отшвырнул ее в другой конец койки. Он тяжело дышал, но ком, который был в груди и животе, исчез. Ублюдки. Мерзкие, блядские ублюдки. Его дыхание успокоилось, он дотянулся до подушки, схватил ее, смял в ком и сунул под голову, растянувшись на койке. Его глазам захотелось закрыться, и он позволим им это, прикрыв их рукой от света. Он вжимал голову поглубже в смятую подушку, а темнеющая серость успокаивала его глаза. Он уснул.
Он сидел в зале суда со Стейси Лори. Он был хорошо одет и уверен в себе. Когда объявили слушание его дела, он проследовал за адвокатом на свое место. Когда зачитывали обвинения, он спокойно стоял, выпрямив спину, не признавая за собой вины, затем сел и внимал процедуре предварительных слушаний. Открывающие дело формальности прошли быстро и четко. Когда сторона обвинения закончила допрос первого свидетеля – арестовавшего его офицера полиции, – Стейси Лори встал и вышел в середину зала, остановившись недалеко от свидетельской трибуны. Несколько минут он спокойным и ровным голосом опрашивал свидетеля. Закончив с вопросами, он обратился к суду, запросив снятие обвинений, процитировав дело Штат против Рубенса (1958; 173,20.5). На этом основании суд снял все обвинения, и дело было закрыто.
Он вышел за адвокатом из зала суда в коридор, где к ним присоединился Дональд Престон, пожавший им руки. Престон, положив ему на плечо руку, поинтересовался, как он себя чувствовал в качестве свободного человека. По правде говоря, немного ошарашивает. Все произошло так быстро. Трудно поверить в то, что все это позади.
Они сели за стол в отдельном кабинете тихого и очень приличного ресторана. Это была маленькая комната, расположенная вдали от основного зала, со стенами, обшитыми дубом. Скатерть была белой, а солнечный свет фильтровался окнами с затемненными стеклами. Он был возбужден и в то же время без проблем сохранял самообладание. Когда им принесли заказанные коктейли, они выпили за успех их будущей кампании. Он с улыбкой сказал, что за это точно выпьет, и все рассмеялись. Затем Престон отметил его мужество, и он скромно улыбнулся в ответ.
Он чувствовал себя как дома в роскошном офисе Престона, где они с энтузиазмом обсуждали грядущую кампанию. Он очень хотел услышать их планы и поделиться собственными идеями. Теперь, когда все формальности с законом были улажены, его мозг формулировал новые идеи с потрясающей четкостью.
Как я уже сказал, один из моих репортеров – один из лучших – присутствовал на слушаниях и уже работает над статьей. Когда он закончит, мы возьмем у вас интервью. Много времени это не займет. Ему нужно лишь донести до читателей ваши мысли и реакции. Сам репортаж появится в завтрашней газете, а интервью выйдет в воскресном выпуске. Интервью длинным не будет – это я уже говорил – буквально две – три страницы. Вы же понимаете, что не стоит вываливать публике все сразу. Если мы так поступим, то людям это быстро наскучит (он согласно кивнул) и их энтузиазм пропадет. Между этими двумя материалами я опубликую заявление или, если вам угодно, манифест, объясняющий цели кампании. Естественно, два-три раза в неделю будут выходить новые материалы на эту тему, поднимающие острые вопросы. Таким образом, интерес публики будет постоянно подогреваться.
А в промежутках между подачей материалов я буду писать статьи в юридический журнал с обращениями к различным гражданским и профессиональным организациям.
Звучит отлично. Просто замечательно. Есть, правда, один момент, который я особо хотел бы упомянуть. Он помолчал секунду, потом чуть подался вперед в своем кресле. Я думаю, нам стоило бы посвятить эту кампанию борьбе со всеми проявлениями авторитарного деспотизма. Моя мысль в том, что есть множество проявлений произвола властей – со стороны полиции, политиков, профсоюзов, банкиров, в школах, тюрьмах и бог знает где еще. Также, мне кажется, если кампания окажется длительной, люди потеряют к ней интерес, однако с правильно выдержанными интервалами – особенно когда возникнет нехватка свежих новостей – вы всегда сможете перейти к другому аспекту этого движения и разоблачить еще какое-нибудь из авторитарных преступлений, совершающихся где-нибудь в большом мире.
По тому, как горячо они согласились с его предложением, было очевидно, что оно не просто им понравилось – они так же поняли, что он не руководствовался никакими мотивами личной мести.
Репортер садится напротив, расположив между ними микрофон портативного магнитофона.
Вопрос: Во-первых, хотелось бы спросить, каково это – быть снова свободным?
Ответ: Прекрасно (он улыбается), просто замечательно. У меня не хватит слов, чтобы выразить свою благодарность господам Престону и Лори за их помощь.
В: Как вам удалось с ними связаться?
О: Ну (он слегка откидывается назад в своем кресле с задумчивым выражением лица, таким, чтобы не выглядеть чересчур загадочным, при этом желая донести до репортера серьезность этого вопроса. Вопроса, на который без должного обдумывания не отвечают. Когда по лицу репортера он увидел, что тот осознал и понимает, что он вовсе не играет роль, и что вопрос действительно серьезный и деликатный, он снова подался вперед), боюсь, я не могу раскрыть всех подробностей того, как мне удалось выйти на связь с этими джентльменами. Могу лишь сказать, что у меня получилось связаться с газетой и таким образом вовлечь в это дело уважаемых мистера Престона и мистера Лори.