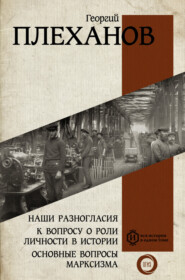По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
А. Л. Волынский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А. Л. Волынский
Георгий Валентинович Плеханов
«…Литературная внешность книги г. Волынского не только громко кричит, а – прямо надо говорить – вопит против него. Фамусову нравилось когда-то, что московские барышни ни одного слова не произносили просто, а все с ужимкой. Г. Волынский почему-то вообразил, что следует подражать этим барышням. Он положительно не говорит иначе, как с ужимкой, и притом с какой-то крикливой, истерической ужимкой. Коснется ли дело Пушкина, г. Волынский закатывает глазки и выкрикивает: «Его пафос не в том, в чем» видит его Белинский. Его светлый гений широк и грустен, как русская природа…»
Георгий Валентинович Плеханов
А. В. Волынский
I
Г. Волынский написал книгу под заглавием «Русские критики». Что это за книга?
По платью встречают, по уму провожают – говорит пословица. В жизни очень нехорошо встречать людей по платью, но в «республике слова» это не только позволительно, а прямо неизбежно. Литературная внешность всякого данного произведения прежде всего бросается в глаза, а на основании этого «платья» можно составить себе довольно точное понятие об авторе. Le style c'est l'homme.
Литературная внешность книги г. Волынского не только громко кричит, а – прямо надо говорить – вопит против него.
Фамусову нравилось когда-то, что московские барышни ни одного слова не произносили просто, а все с ужимкой. Г. Волынский почему-то вообразил, что следует подражать этим барышням. Он положительно не говорит иначе, как с ужимкой, и притом с какой-то крикливой, истерической ужимкой. Коснется ли дело Пушкина, г. Волынский закатывает глазки и выкрикивает: «Его пафос не в том, в чем» видит его Белинский. Его светлый гений широк и грустен, как русская природа. Раздолье без конца, простор, неотъемлемый глазом, бесконечные леса, по которым пробегает таинственный шум, и во всем этом какое-то томление невыразимой тоски и печали. Порыв, удалой разгул страстей и затем, через несколько мгновений, мысль о смерти, вопль неудовлетворенного чувства, настроение бессвязных и своею бессвязностью мучительных запросов, встающих в тумане. Таков гений русской жизни. Такова «русская душа», и т. д., и т. д. Заходит ли речь о сатире Гоголя, г. Волынский опять поднимает очи горе и вещает: «Повсюду (у Гоголя) чувствуется сдавленный смех сквозь слезы, фанатическая ненависть к пороку, стремление оторваться от земной жизни, не оставляющей в душе ничего, кроме отчаяния, страстный порыв к небу с широко раскрытыми от ужаса глазами, ищущими пристанища и спасения для измученного сердца». Добролюбов не знал, как уверяет г. Волынский, «никаких широких увлечений с кипением всех чувств»; статьи же Белинского «облиты светом внутреннего пожара». Короче, какую ни откройте страницу в книге «Русские критики», вы непременно встретитесь или с «дуновением вечных идеалов», или «с вдохновением свыше», или с «человеком, который мыслил вечность» (это Гегель), или с «порывистой повадкой борьбы в народном духе» (это у Белинского была, изволите ли видеть, натура, отличающаяся такой «повадкой»), или, наконец, еще с каким-нибудь другим высокопарным вздором.
Часто, при чтении книги г. Волынского, нам хотелось воскликнуть словами Базарова: «Друг мой, Аркадий Николаевич, пожалуйста, не говори красиво!». Однако мы тут же создавались, что мы не справедливы к Кирсанову. Он был – нечего греха таить – порядочный фразер, но фраза у него была плодом почти детской наивности; фразерство же г. Волынского с наивностью общего ничего не имеет. Оно почему-то напоминает «пафос» Утешительного, о котором Швохнев замечает: «горяч необыкновенно: еще первые два слова из того, что он говорит, можно понять, а уже дальше ничего не поймешь». Очень, очень дурно нарядил свои мысли г. Волынский!
А каковы именно эти мысли? каков, «ум» его книги?
Издавая в свет свою книгу, г. Волынский «хотел представить более или менее законченный труд по истории русской критики в ее главнейших моментах». Из этого «труда» явствует, что у нас до сих пор не было «истинной критики» и что если нас не выручит г. Волынский, то и впредь ничего хорошего нам ожидать невозможно.
«Истинная критика» есть «философская» и именно идеалистическая критика. В качестве таковой, она должна, конечно, опираться на какую-нибудь идеалистическую систему. Изложение г. Волынского недает вполне ясного понятия о том, какой именно философской системы он придерживается. Но кажется, что наибольшим его расположением пользуется «человек, который мыслил вечность», т. е. Гегель. Мы предполагаем это потому, что, говоря об этом замечательном человеке, г. Волынский делает несравненно более ужимок, чем когда ему случается коснуться других великих идеалистов. Если: наше предположение справедливо, то наш автор представляет из себя чрезвычайно замечательное и едва ли не единственное в своем роде явление: так редки гегельянцы в ваше время.
Но с тех пор, как явилась система Гегеля, прошло, как известно, немало времени. Философская мысль не стояла на одном месте. Внутри гегелевской школы произошло многознаменательное разделение. Некоторые из примыкавших к ней философов перешли к материализму. А с другой стороны естествознание и общественные науки обогатились такими важными открытиями, что решительно ни один серьезный человек не может теперь без очень и очень существенных оговорок объявитъ себя последователем Гегеля. Никаких таких оговорок мы не встречаем в книге г. Волынского. Г. Волынский не критикует Гегеля. Критика заменяется у него схоластическим и чрезвычайно малосодержа-тельным изложением некоторых параграфов гегелевской логики, да широковещательными и в то же время ровно ничего не выражающими тирадами, вроде нижеследующей:
«Дело не в том, верна ли эта система в отдельных своих частностях, выдержана ли она во всех подробностях. Промыслить (!) весь мир в его идеальных основах, уловить законы его непрекращающегося движения, постигнуть живого Бога в его общих и конкретных выражениях, дать жизненным импульс абстрактному и одушевить конкретное жаждой бесконечного, – это вечная задача для философии, которая не пожелает ограничиться одними схоластическими, формальными построе-ниями. Тут неизбежны некоторые ошибки, которые исчезнут о потоке дальнейшего философского прогресса. Тут неизбежны отдельные логические промахи. Но суть задачи, таким образом понятой, поставленной на такую реальную, историческую (sic!) почву, внутренними узами связанной с интересами человеческого существования, останется неизменной для всех времен и эпох» («Русские критики», стр. 59–60).
Что г. Волынский «горяч необыкновенно», это не подлежит ни малейшему сомнению. Но о нем приходится сказать теми самыми словами, которыми он хочет характеризовать Белинского: «Он не проявляет самобытного философского таланта». Да что там говорить о самобытном философском таланте! Г. Волынский неспособен правильно понимать даже чужие философские мысли. Вот, например, он побивает материализм; доводами Юркевича, выступившего когда-то в «Трудах Киевской Духовной Академии» против автора знаменитой статьи «Антропологический принцип в философии». Между прочим, он приводит также следующий резкий приговор киевского мыслителя: «Материализм, с его категорическим утверждением, что физические силы производят психическую жизнь, не имеет права считать себя ни наукой, ни философией, пригодной для современного человека. Это тоже метафизика, но притом метафизика грубая, догматически-первобытная, не понимающая, что материя только в связи с сознанием такова, какою она является в опыте» (стр. 284).
Допустим, что здесь правильно изложен взгляд материалистов на отношение физических сил к психической жизни. Допустим также, что в силу изложенного соображения материализм оказывается грубой, догматически-первобытной метафизикой. Но не пострадает ли от этого нашего допущения и идеализм, столь любезный сердцу г. Волынского?
Г. Волынский правильно говорит, что «в основание всей своей системы Гегель положил понятие духа» (стр. 57). На каком же основании сделал это Гегель? Не показалось ли бы это грубой, первобытно-догматической метафизикой тем самым людям, которые считают неотразимым вышеприведенный довод против материализма? Известно ли г. Волынскому, как смотрел сам Гегель на то философское учение, из арсенала которого заимствован этот довод? Юркевичу это было, конечно, все равно: ему надо было только посрамить материалистов. Но наш-то гегельянец с какой стати вздумал восхищаться аргументацией Юркевича? Неужели он считает возможным валить в одну кучу абсолютный идеализм и «критическую» философию?
А теперь вернемся ко взгляду материалистов на отношение физических сил к психической жизни.
Материя, «какою она является там в опыте», не есть вещь в себе (Ding an sich), ноумен; она есть явление, феномен. Это неоспоримо; это простая тавтология. Но неоспоримо и то, что сознание, каким оно является нам в нашем внутреннем опыте, тоже есть явление, а не вещь в себе. У нас нет решительно никаких оснований для того, чтоб отождествлять один из этих феноменов с другим или вообще так или иначе сводить их один к другому, например, объявить материю «инобытием духа», как это делал Гегель, или дух – инобытием материи, как это делают материалисты, по мнению Юркевича, Волынского и прочих любомудров (им же имя легион), не знающих истории материализма. Но у нас есть все необходимые и достаточные основания для того, чтобы признать существование известной связи между указанными феноменами.
Опыт показывает, что психические явления вызываются известными физико-химическими (физиологическими) явлениями в нервной ткани. «В наши дни, конечно, никто из знакомых с делом и Знающих факты не усомнится в том, что основы психологии заключаются в физиологии нервной системы», – говорит Гексли. «Так называемые действия духа представляют собою совокупность мозговых функций, и явления сознания составляют результат деятельности мозга» [1 - Hume, sa vie, sa philosophie, Paris 1880, p. 108. Надобно заметить, впрочем, что чувствительностью обладают, по-видимому, уже такие организмы, у которых еще нет отдельной нервной системы.]. Таким образом, если бы мы сказали вместе со Спинозой, что мысль и материя представляют собою два различные атрибута одной и той же субстанции, то мы должны были бы в то же время признать, что первый из этих атрибутов обнаруживается лишь благодаря второму. Это решительно ни в чем не противоречило бы выводам современной науки, а между тем это составляло бы как раз тот взгляд на «психическую жизнь», который так ее нравился Юркевичу.
II
Пойдем дальше. Юркевич уверял, что материализм не может дать прочной основы истинно-прогрессивному миросозерцанию. То же повторяет г. Волынский, стараясь выставить на вид преимущества идеализма с точки зрения практического разума. Но, не обладая ни «самобытным философским талантом», ни даже простою способностью правильно понимать чужие мысли, наш автор и в этом случае плохо успевает в своем намерении. Вот, например, Белинский упрекал Гегеля в том, что «субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него Молохом, ибо, пощеголяв в нем, оно бросает его, как старые штаны».
Г. Волынский возражает:
«Зависимость субъекта от мирового всеобъединяющего духа – истинная сила этой системы, определившей (!?) верховный закон, смысл и порядок в процессе жизни. Именно в этом пункте учение Гегеля поднимается над заурядным знанием (а! именно в этом, – так и запишем), сливая науку с религией, давая твердый ответ на лучшие запросы человеческой души» (стр. 101).
Скажите, читатель, – «твердый» ли это ответ и вообще
…ответ ли это, полно!
Белинский говорит, что все толки Гегеля о нравственности – пустяки, «Ибо в объективном царстве мысли нет нравственности». Нетрудно показать, что это «ибо» неосновательно. Но г. Волынский ничего не показывает, а, закативши по своему обыкновению глазки, дает волю своему «пафосу».
«Если, чтобы спасти человечество от безнравственности, нужны ребяческие выдумки дилетантского субъективизма, то не подлежит сомнению, что человечество может быть спасено только усилиями чисто русской философии (о которой Белинский никогда не мечтал). Философия, мыслящая мировое начало, делающая человека органом воплощения объективных сил, философия, созерцающая красоту и правду в движении всеобщего разума, – такая философия должна погубить человечество. Спасение только в натуре» (стр. 102).
Да, горяч, необыкновенно горяч г. Волынский!
А то вот еще тирада не только с «кипением чувств», но даже как бы и с некоею философическою хитростью.
«Прогрессивная сила идеализма – в отчетливом понимании той борьбы, которая вечно происходит между высшими и низшими началами человека. Видеть всю природу в свете сознания, подчинить механическое движение естественных сил высшему, духовному принципу, выдвинуть свободную человеческую волю, как рычаг перестройки грубых форм исторического существования, – вот в чем задача идеализма, если обратить его не только к теоретическим, но и практическим интересам человечества. Вечные контрасты между идеей и фактом, между чувственным опытом и требованиями разума – вот средство для настоящей гуманной и нравственной агитации. Прогрессивный, по самой природе, идеализм только в неопытных руках может обратиться в орудие ретроградного влияния» (стр. 86).
Хорошо сделал бы г. Волынский, если бы усвоил себе привычку перечитывать ори «свете сознания» хоть те строки, в которых кипение чувств происходит по поводу важных философических материй. От многих пустяков спасла бы его такая привычка.
Прогрессивная сила диалектического идеализма заключалась вовсе не в сочиненном г. Волынским отчетливом понимании борьбы, происходящей между высшими и низшими началами человека.
Католические патеры, а особенно иезуиты, всегда занимались этой борьбой гораздо больше и, конечно, понимали ее отчетливее, чем великие идеалисты, у которых, по крайней мере, в лучшие периоды их жизни, было так много светлого языческого духа древней Греции. Прогрессивная сила диалектического идеализма заключалась в том, что он рассматривал явления в процессе их развития, их возникновения и их уничтожения. Достаточно твердо усвоить себе точку зрения развития, чтоб лишиться всякой возможности быть искренним консерватором. А пока человеческий род находится в восходящей части кривой линии своего исторического движения, – всякий, усвоивший себе точку зрения развития, непременно будет прогрессистом, если не пожелает входить в сделки со своею совестью и не утратит в сущности совершенно элементарной способности делать правильные умозаключения из им же самим принятых посылок. Но для того, чтобы уметь твердо стоять на указанной точке зрения, вовсе нет надобности быть идеалистом. Новейший диалектический материализм держится за нее по меньшей мере так же прочно, как и идеализм первой половины XIX века.
Видеть всю природу в свете сознания, подчинить механическое движение высшему духовному принципу… Это, конечно, было бы красиво, но, к сожалению, г. Волынский не объясняет, каким именно образом идеализм решил эту «задачу», и в чем решение, данное идеализмом, отличается от решения, предлагаемого современным естествознанием и современной техникой, которые, как известно, довольно успешно подчиняют силы природы («естественные силы» г. Волынского) человеческому разуму, т. е. – если вам угодно выражаться высоким стилем – высшему духовному принципу. Или, быть может, г. Волынский как-нибудь иначе ухитряется видеть природу в свете сознания? Может быть, видеть природу в этом освещении значит просто объявить материю «инобытием духа» и построить сообразную этому основному положению натурфилософию. Но ведь такая «задача» относится к области теоретического разума, а мы с г. Волынским занимаемся в настоящую минуту идеализмом, обращенным «не только к теоретическим, но и к практическим интересам человечества». Как же понимать нашего мыслителя?
Ох, горяч, необыкновенно горяч г. Волынский! Еще первые два слова из того, что он говорит, можно понять, а уж дальше ничего не разберешь!..
«Задача» идеализма заключается также и в том, чтобы выдвинуть человеческую волю, как рычаг для перестройки грубых форм исторического существования.
Прекрасно. Но взглянем на это дело при «свете сознания».
По учению великих идеалистов первой половины нашего века, историческое развитие человечества вовсе не есть продукт свободной воли людей. Совершенно наоборот. История ведет человечество к свободе, но задача философии заключается в том, чтобы понять это. движение, как необходимое. Разумеется, ни люди вообще, ни великие исторические деятели в частности не лишены воли; но их воля в каждом своем, будто бы совершенно свободном, самоопределении всецело подпишется необходимости. При том же люди никогда не охватывают своих поступков во всей полноте их будущих последствий. Поэтому историческое движение в весьма значительной степени совершается совершенно независимо от человеческого сознания и человеческой воли. Так представлялось дело Шеллингу и Гегелю, когда они смотрели на него с теоретической точки зрения. Переходя к практическим вопросам, они, конечно, должны были взглянуть на него с другой стороны.
В своем самоопределении воля подчиняется необходимости. Но, как бы ни было необходимо всякое данное ее определение (т. е. как бы да была призрачна наша внутренняя свобода), воля людей, раз определившись, становится источником действия, а следовательно, также и причиной общественных явлений. Человек не сознает того процесса, которым определяется его воля; но он более или менее ясно сознает результаты этого процесса, т. е. он знает, что в данную минуту он хочет действовать так, а не иначе. Когда мы добиваемся какой-нибудь практической цели, когда мы стремимся, например, отменить то или другое устарелое общественное учреждение, мы стараемся поступать так, чтобы воля окружающих нас людей определилась именно сообразно нашему желанию. Мы убеждаем их, мы спорим с ними, мы взываем к их чувству. Это наше влияние на них непременно войдет в число условий, которыми определится их воля. Процесс ее определения будет в этом случае, как и всегда, необходимым процессом; но в раз таре нашей агитации мы совершенно позабудем об этом. Наше внимание сосредоточится не на том обстоятельстве, что воля людей является следствием, а на том, что она бывает, причиной, т. е. в данном случае может вызвать желательные для нас изменения в общественном быту. Таким образом на практике мы будем считаться с волею людей, как будто бы она была свободна. Поступать иначе совершенно невозможно по самой природе явления, называемого самоопределением человеческой воли.
Это прекрасно знали идеалисты-диалектики. Поэтому, рассматривая в теории волю как следствие, они на практике видели в ней причину, т. е. как бы признавали ее свободу. Но это еще совсем не доказывает их прогрессивных стремлений, равно как и не составляет отличительной черты ни диалектического идеализма в частности, ни идеализма вообще. В своей практической философии материалисты (за исключением разве лишь Жака Фаталиста) никогда не высказывали другого взгляда на человеческую волю. Пусть г. Волынский припомнит хотя бы Дидро. Нынешние же материалисты-диалектики особенно хорошо помнят, что на практике воля людей есть необходимый рычаг для перестройки грубых форм исторического существования. Почему же г. Волынский вообразил, что «рычаг» известен только идеалистам? Вероятно, потому, что отличительные признаки идеализма плохо известны г. Волынскому.
Нам сдается, впрочем, что тут была еще и» другая причина. В течение последних десятилетий у нас много рассуждали как раз на ту тему, что воля людей есть необходимый рычаг общественного прогресса. Эта, бесспорная истина, понятная всякому, даже не обучавшемуся в семинарии, была объявлена великим открытием, ее старательно разводили в воде будто бы научного… многословия, ее жевали и пережевывали, ее подпирали разного рода «законами», окружали «формулами», дополняли «поправками» и «поправками к поправкам». Благодаря возне с нею, у нас вдруг явилось множество «наших почтенных социологов», глубокомыслие которых признано всеми благомыслящими россиянами, а известность того и гляди перешагнет за пределы отечества. Слава «наших почтенных социологов» не давала спать г. Волынскому, подобно тому, как слава Мильтиада не давала уснуть Фемистоклу. Но идти по проложенной уже тропе он не хотел. Он ясно видел, что ему, несмотря ни на какие усилия и ужимки, не удалось бы превзойти своих предшественников в плодотворном деле измышления «законов», «формул» и «поправок». И вот он решился выступить на новый путь. Подметив, что «наши почтенные социологи» весьма слабоваты по части философии, он объявил себя идеалистом и пошел, для острастки, поминутно (и всегда всуе) поминать то Шопенгауэра, то Гегеля, то Шеллинга, то Фихте. А так как идеализму приписывали у нас консервативные тенденции, то г. Волынский стал, при каждом удобном и неудобном случае, частью на языке институтки, начитавшейся Марлинского, частью на языке бурсака», сбитого с толку непереваренной «премудростью книжной», а частью, наконец, прямо на языке Утешительного, – твердить своим читателям, что в сущности он, идеалист г. Волынский, нисколько не менее прогрессивен, чем «наши почтенные социологи», но что он, будучи глубже и ученее, может в каждую данную минуту мобилизовать для защиты прогресса целую армию самых страшных философов, между тем как они, «наши почтенные социологи», знают только «формулы» да «поправки». А чтобы у читателя не осталось никакого сомнения насчет его прогрессивных намерений, г. Волынский выдвинул свободную волю как рычаг, и проч. Таким образом выходило, что, раскланявшись с «нашими почтенными социологами» и подчинившись умственному руководительству г. Волынского, читатель целиком сохранил бы издавна любезный ему «рычаг», а в то же время приобрел бы целую уйму философского глубокомыслия. Выгоднее такого обмена ничего и придумать невозможно.
Г. Волынскому хочется уверить своих читателей, что его взгляды заключают в себе полное отрицание тех философских грехов, которых, – надо сознаться, – немало накопилось за русской мыслью, начиная с двадцатых годов и до настоящего времени. На самом же деле, его взгляды являются возведением этих самых грехов в квадрат, если не в четвертую степень. Его теоретическая философия сводится к совершенно бессодержательным фразам; его практическая философия есть не более, как чрезвычайно плохая пародия на нашу «субъективную социологию».
III
Рассуждения г. Волынского об «истинной критике» отличаются такою же бессодержательностью, как и все другие его философские упражнения.
«Изучая деятельность русских критиков, – возвещает он еще в предисловии, – я держался, как это будет видно из самой книги, того мнения, что критика художественных произведений должна быть не публицистическою, а философскою, – должна опираться на твердую систему философских понятий известного идеалистического типа. Она должна следить за тем, как поэтическая идея, возникнув в таинственной глубине человеческого духа, пробивается сквозь пестрый материал жизненных представлений и взглядов автора. Эта поэтическая идея либо перерабатывает факты внешнего опыта и показывает их в том освещении, которое позволяет измерить их истинную значительность, либо, при ограниченности природного таланта писателя, сама разлагается под влиянием его психологических особенностей и фальшивых тенденций его мировоззрения. И настоящая литературная критика должна быть компетентна как в оценке поэтических идей, всегда имеющих отвлеченную природу, так и в раскрытии творческого процесса, который является взаимодействием сознательных и бессознательных сил художника. Искусство может выдать свои тайны только пытливой мысли философа, который в созерцательном экстазе соединяет все конечное с бесконечным, связывает психологические настроения выливающиеся в поэтических образах, с вечными законами мирового развития».Уф! дайте перевести дух… Мы потому сделали эту длинную выписку, что нам хотелось разом ознакомить вас, читатель, с «истинной критикой».
Теперь, если бы вы пять раз перечитали книгу г. Волынского, то и тогда не нашли бы возможности прибавить какие-нибудь новые черты к почтенному, хотя и несколько педантическому, образу этой старушки-критики. Все, что говорит о ней далее наш автор, представляет лишь красноречивые вариации (вам уже знакомо его высокое, красноречие) на тему о необходимости раскрытия творческого процесса и оценки отвлеченных поэтических идей, а также и о пользе созерцательного экстаза. Ото всех этих вариаций веет поистине смертельной скукой, а когда г. Волынский, говоря о каком-нибудь отдельном поэтическом произведении, высказывает травильный взгляд на него, то, при ближайшем рассмотрении, этот взгляд оказывается заимствованным у того самого Белинского, который «не умел спокойно допытываться истины» и не проявлял «самобытного философского таланта». Мучить читателя новыми выписками мы поэтому не станем, а только укажем на то, как чинит г. Волынский суд и расправу над своими предшественниками в области литературной критики.
Призывая их одного за другим к своему философскому трибуналу, он спрашивает:
1) Всегда ли признавал подсудимый некоторые философские понятия «известного идеалистического типа»?
Георгий Валентинович Плеханов
«…Литературная внешность книги г. Волынского не только громко кричит, а – прямо надо говорить – вопит против него. Фамусову нравилось когда-то, что московские барышни ни одного слова не произносили просто, а все с ужимкой. Г. Волынский почему-то вообразил, что следует подражать этим барышням. Он положительно не говорит иначе, как с ужимкой, и притом с какой-то крикливой, истерической ужимкой. Коснется ли дело Пушкина, г. Волынский закатывает глазки и выкрикивает: «Его пафос не в том, в чем» видит его Белинский. Его светлый гений широк и грустен, как русская природа…»
Георгий Валентинович Плеханов
А. В. Волынский
I
Г. Волынский написал книгу под заглавием «Русские критики». Что это за книга?
По платью встречают, по уму провожают – говорит пословица. В жизни очень нехорошо встречать людей по платью, но в «республике слова» это не только позволительно, а прямо неизбежно. Литературная внешность всякого данного произведения прежде всего бросается в глаза, а на основании этого «платья» можно составить себе довольно точное понятие об авторе. Le style c'est l'homme.
Литературная внешность книги г. Волынского не только громко кричит, а – прямо надо говорить – вопит против него.
Фамусову нравилось когда-то, что московские барышни ни одного слова не произносили просто, а все с ужимкой. Г. Волынский почему-то вообразил, что следует подражать этим барышням. Он положительно не говорит иначе, как с ужимкой, и притом с какой-то крикливой, истерической ужимкой. Коснется ли дело Пушкина, г. Волынский закатывает глазки и выкрикивает: «Его пафос не в том, в чем» видит его Белинский. Его светлый гений широк и грустен, как русская природа. Раздолье без конца, простор, неотъемлемый глазом, бесконечные леса, по которым пробегает таинственный шум, и во всем этом какое-то томление невыразимой тоски и печали. Порыв, удалой разгул страстей и затем, через несколько мгновений, мысль о смерти, вопль неудовлетворенного чувства, настроение бессвязных и своею бессвязностью мучительных запросов, встающих в тумане. Таков гений русской жизни. Такова «русская душа», и т. д., и т. д. Заходит ли речь о сатире Гоголя, г. Волынский опять поднимает очи горе и вещает: «Повсюду (у Гоголя) чувствуется сдавленный смех сквозь слезы, фанатическая ненависть к пороку, стремление оторваться от земной жизни, не оставляющей в душе ничего, кроме отчаяния, страстный порыв к небу с широко раскрытыми от ужаса глазами, ищущими пристанища и спасения для измученного сердца». Добролюбов не знал, как уверяет г. Волынский, «никаких широких увлечений с кипением всех чувств»; статьи же Белинского «облиты светом внутреннего пожара». Короче, какую ни откройте страницу в книге «Русские критики», вы непременно встретитесь или с «дуновением вечных идеалов», или «с вдохновением свыше», или с «человеком, который мыслил вечность» (это Гегель), или с «порывистой повадкой борьбы в народном духе» (это у Белинского была, изволите ли видеть, натура, отличающаяся такой «повадкой»), или, наконец, еще с каким-нибудь другим высокопарным вздором.
Часто, при чтении книги г. Волынского, нам хотелось воскликнуть словами Базарова: «Друг мой, Аркадий Николаевич, пожалуйста, не говори красиво!». Однако мы тут же создавались, что мы не справедливы к Кирсанову. Он был – нечего греха таить – порядочный фразер, но фраза у него была плодом почти детской наивности; фразерство же г. Волынского с наивностью общего ничего не имеет. Оно почему-то напоминает «пафос» Утешительного, о котором Швохнев замечает: «горяч необыкновенно: еще первые два слова из того, что он говорит, можно понять, а уже дальше ничего не поймешь». Очень, очень дурно нарядил свои мысли г. Волынский!
А каковы именно эти мысли? каков, «ум» его книги?
Издавая в свет свою книгу, г. Волынский «хотел представить более или менее законченный труд по истории русской критики в ее главнейших моментах». Из этого «труда» явствует, что у нас до сих пор не было «истинной критики» и что если нас не выручит г. Волынский, то и впредь ничего хорошего нам ожидать невозможно.
«Истинная критика» есть «философская» и именно идеалистическая критика. В качестве таковой, она должна, конечно, опираться на какую-нибудь идеалистическую систему. Изложение г. Волынского недает вполне ясного понятия о том, какой именно философской системы он придерживается. Но кажется, что наибольшим его расположением пользуется «человек, который мыслил вечность», т. е. Гегель. Мы предполагаем это потому, что, говоря об этом замечательном человеке, г. Волынский делает несравненно более ужимок, чем когда ему случается коснуться других великих идеалистов. Если: наше предположение справедливо, то наш автор представляет из себя чрезвычайно замечательное и едва ли не единственное в своем роде явление: так редки гегельянцы в ваше время.
Но с тех пор, как явилась система Гегеля, прошло, как известно, немало времени. Философская мысль не стояла на одном месте. Внутри гегелевской школы произошло многознаменательное разделение. Некоторые из примыкавших к ней философов перешли к материализму. А с другой стороны естествознание и общественные науки обогатились такими важными открытиями, что решительно ни один серьезный человек не может теперь без очень и очень существенных оговорок объявитъ себя последователем Гегеля. Никаких таких оговорок мы не встречаем в книге г. Волынского. Г. Волынский не критикует Гегеля. Критика заменяется у него схоластическим и чрезвычайно малосодержа-тельным изложением некоторых параграфов гегелевской логики, да широковещательными и в то же время ровно ничего не выражающими тирадами, вроде нижеследующей:
«Дело не в том, верна ли эта система в отдельных своих частностях, выдержана ли она во всех подробностях. Промыслить (!) весь мир в его идеальных основах, уловить законы его непрекращающегося движения, постигнуть живого Бога в его общих и конкретных выражениях, дать жизненным импульс абстрактному и одушевить конкретное жаждой бесконечного, – это вечная задача для философии, которая не пожелает ограничиться одними схоластическими, формальными построе-ниями. Тут неизбежны некоторые ошибки, которые исчезнут о потоке дальнейшего философского прогресса. Тут неизбежны отдельные логические промахи. Но суть задачи, таким образом понятой, поставленной на такую реальную, историческую (sic!) почву, внутренними узами связанной с интересами человеческого существования, останется неизменной для всех времен и эпох» («Русские критики», стр. 59–60).
Что г. Волынский «горяч необыкновенно», это не подлежит ни малейшему сомнению. Но о нем приходится сказать теми самыми словами, которыми он хочет характеризовать Белинского: «Он не проявляет самобытного философского таланта». Да что там говорить о самобытном философском таланте! Г. Волынский неспособен правильно понимать даже чужие философские мысли. Вот, например, он побивает материализм; доводами Юркевича, выступившего когда-то в «Трудах Киевской Духовной Академии» против автора знаменитой статьи «Антропологический принцип в философии». Между прочим, он приводит также следующий резкий приговор киевского мыслителя: «Материализм, с его категорическим утверждением, что физические силы производят психическую жизнь, не имеет права считать себя ни наукой, ни философией, пригодной для современного человека. Это тоже метафизика, но притом метафизика грубая, догматически-первобытная, не понимающая, что материя только в связи с сознанием такова, какою она является в опыте» (стр. 284).
Допустим, что здесь правильно изложен взгляд материалистов на отношение физических сил к психической жизни. Допустим также, что в силу изложенного соображения материализм оказывается грубой, догматически-первобытной метафизикой. Но не пострадает ли от этого нашего допущения и идеализм, столь любезный сердцу г. Волынского?
Г. Волынский правильно говорит, что «в основание всей своей системы Гегель положил понятие духа» (стр. 57). На каком же основании сделал это Гегель? Не показалось ли бы это грубой, первобытно-догматической метафизикой тем самым людям, которые считают неотразимым вышеприведенный довод против материализма? Известно ли г. Волынскому, как смотрел сам Гегель на то философское учение, из арсенала которого заимствован этот довод? Юркевичу это было, конечно, все равно: ему надо было только посрамить материалистов. Но наш-то гегельянец с какой стати вздумал восхищаться аргументацией Юркевича? Неужели он считает возможным валить в одну кучу абсолютный идеализм и «критическую» философию?
А теперь вернемся ко взгляду материалистов на отношение физических сил к психической жизни.
Материя, «какою она является там в опыте», не есть вещь в себе (Ding an sich), ноумен; она есть явление, феномен. Это неоспоримо; это простая тавтология. Но неоспоримо и то, что сознание, каким оно является нам в нашем внутреннем опыте, тоже есть явление, а не вещь в себе. У нас нет решительно никаких оснований для того, чтоб отождествлять один из этих феноменов с другим или вообще так или иначе сводить их один к другому, например, объявить материю «инобытием духа», как это делал Гегель, или дух – инобытием материи, как это делают материалисты, по мнению Юркевича, Волынского и прочих любомудров (им же имя легион), не знающих истории материализма. Но у нас есть все необходимые и достаточные основания для того, чтобы признать существование известной связи между указанными феноменами.
Опыт показывает, что психические явления вызываются известными физико-химическими (физиологическими) явлениями в нервной ткани. «В наши дни, конечно, никто из знакомых с делом и Знающих факты не усомнится в том, что основы психологии заключаются в физиологии нервной системы», – говорит Гексли. «Так называемые действия духа представляют собою совокупность мозговых функций, и явления сознания составляют результат деятельности мозга» [1 - Hume, sa vie, sa philosophie, Paris 1880, p. 108. Надобно заметить, впрочем, что чувствительностью обладают, по-видимому, уже такие организмы, у которых еще нет отдельной нервной системы.]. Таким образом, если бы мы сказали вместе со Спинозой, что мысль и материя представляют собою два различные атрибута одной и той же субстанции, то мы должны были бы в то же время признать, что первый из этих атрибутов обнаруживается лишь благодаря второму. Это решительно ни в чем не противоречило бы выводам современной науки, а между тем это составляло бы как раз тот взгляд на «психическую жизнь», который так ее нравился Юркевичу.
II
Пойдем дальше. Юркевич уверял, что материализм не может дать прочной основы истинно-прогрессивному миросозерцанию. То же повторяет г. Волынский, стараясь выставить на вид преимущества идеализма с точки зрения практического разума. Но, не обладая ни «самобытным философским талантом», ни даже простою способностью правильно понимать чужие мысли, наш автор и в этом случае плохо успевает в своем намерении. Вот, например, Белинский упрекал Гегеля в том, что «субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него Молохом, ибо, пощеголяв в нем, оно бросает его, как старые штаны».
Г. Волынский возражает:
«Зависимость субъекта от мирового всеобъединяющего духа – истинная сила этой системы, определившей (!?) верховный закон, смысл и порядок в процессе жизни. Именно в этом пункте учение Гегеля поднимается над заурядным знанием (а! именно в этом, – так и запишем), сливая науку с религией, давая твердый ответ на лучшие запросы человеческой души» (стр. 101).
Скажите, читатель, – «твердый» ли это ответ и вообще
…ответ ли это, полно!
Белинский говорит, что все толки Гегеля о нравственности – пустяки, «Ибо в объективном царстве мысли нет нравственности». Нетрудно показать, что это «ибо» неосновательно. Но г. Волынский ничего не показывает, а, закативши по своему обыкновению глазки, дает волю своему «пафосу».
«Если, чтобы спасти человечество от безнравственности, нужны ребяческие выдумки дилетантского субъективизма, то не подлежит сомнению, что человечество может быть спасено только усилиями чисто русской философии (о которой Белинский никогда не мечтал). Философия, мыслящая мировое начало, делающая человека органом воплощения объективных сил, философия, созерцающая красоту и правду в движении всеобщего разума, – такая философия должна погубить человечество. Спасение только в натуре» (стр. 102).
Да, горяч, необыкновенно горяч г. Волынский!
А то вот еще тирада не только с «кипением чувств», но даже как бы и с некоею философическою хитростью.
«Прогрессивная сила идеализма – в отчетливом понимании той борьбы, которая вечно происходит между высшими и низшими началами человека. Видеть всю природу в свете сознания, подчинить механическое движение естественных сил высшему, духовному принципу, выдвинуть свободную человеческую волю, как рычаг перестройки грубых форм исторического существования, – вот в чем задача идеализма, если обратить его не только к теоретическим, но и практическим интересам человечества. Вечные контрасты между идеей и фактом, между чувственным опытом и требованиями разума – вот средство для настоящей гуманной и нравственной агитации. Прогрессивный, по самой природе, идеализм только в неопытных руках может обратиться в орудие ретроградного влияния» (стр. 86).
Хорошо сделал бы г. Волынский, если бы усвоил себе привычку перечитывать ори «свете сознания» хоть те строки, в которых кипение чувств происходит по поводу важных философических материй. От многих пустяков спасла бы его такая привычка.
Прогрессивная сила диалектического идеализма заключалась вовсе не в сочиненном г. Волынским отчетливом понимании борьбы, происходящей между высшими и низшими началами человека.
Католические патеры, а особенно иезуиты, всегда занимались этой борьбой гораздо больше и, конечно, понимали ее отчетливее, чем великие идеалисты, у которых, по крайней мере, в лучшие периоды их жизни, было так много светлого языческого духа древней Греции. Прогрессивная сила диалектического идеализма заключалась в том, что он рассматривал явления в процессе их развития, их возникновения и их уничтожения. Достаточно твердо усвоить себе точку зрения развития, чтоб лишиться всякой возможности быть искренним консерватором. А пока человеческий род находится в восходящей части кривой линии своего исторического движения, – всякий, усвоивший себе точку зрения развития, непременно будет прогрессистом, если не пожелает входить в сделки со своею совестью и не утратит в сущности совершенно элементарной способности делать правильные умозаключения из им же самим принятых посылок. Но для того, чтобы уметь твердо стоять на указанной точке зрения, вовсе нет надобности быть идеалистом. Новейший диалектический материализм держится за нее по меньшей мере так же прочно, как и идеализм первой половины XIX века.
Видеть всю природу в свете сознания, подчинить механическое движение высшему духовному принципу… Это, конечно, было бы красиво, но, к сожалению, г. Волынский не объясняет, каким именно образом идеализм решил эту «задачу», и в чем решение, данное идеализмом, отличается от решения, предлагаемого современным естествознанием и современной техникой, которые, как известно, довольно успешно подчиняют силы природы («естественные силы» г. Волынского) человеческому разуму, т. е. – если вам угодно выражаться высоким стилем – высшему духовному принципу. Или, быть может, г. Волынский как-нибудь иначе ухитряется видеть природу в свете сознания? Может быть, видеть природу в этом освещении значит просто объявить материю «инобытием духа» и построить сообразную этому основному положению натурфилософию. Но ведь такая «задача» относится к области теоретического разума, а мы с г. Волынским занимаемся в настоящую минуту идеализмом, обращенным «не только к теоретическим, но и к практическим интересам человечества». Как же понимать нашего мыслителя?
Ох, горяч, необыкновенно горяч г. Волынский! Еще первые два слова из того, что он говорит, можно понять, а уж дальше ничего не разберешь!..
«Задача» идеализма заключается также и в том, чтобы выдвинуть человеческую волю, как рычаг для перестройки грубых форм исторического существования.
Прекрасно. Но взглянем на это дело при «свете сознания».
По учению великих идеалистов первой половины нашего века, историческое развитие человечества вовсе не есть продукт свободной воли людей. Совершенно наоборот. История ведет человечество к свободе, но задача философии заключается в том, чтобы понять это. движение, как необходимое. Разумеется, ни люди вообще, ни великие исторические деятели в частности не лишены воли; но их воля в каждом своем, будто бы совершенно свободном, самоопределении всецело подпишется необходимости. При том же люди никогда не охватывают своих поступков во всей полноте их будущих последствий. Поэтому историческое движение в весьма значительной степени совершается совершенно независимо от человеческого сознания и человеческой воли. Так представлялось дело Шеллингу и Гегелю, когда они смотрели на него с теоретической точки зрения. Переходя к практическим вопросам, они, конечно, должны были взглянуть на него с другой стороны.
В своем самоопределении воля подчиняется необходимости. Но, как бы ни было необходимо всякое данное ее определение (т. е. как бы да была призрачна наша внутренняя свобода), воля людей, раз определившись, становится источником действия, а следовательно, также и причиной общественных явлений. Человек не сознает того процесса, которым определяется его воля; но он более или менее ясно сознает результаты этого процесса, т. е. он знает, что в данную минуту он хочет действовать так, а не иначе. Когда мы добиваемся какой-нибудь практической цели, когда мы стремимся, например, отменить то или другое устарелое общественное учреждение, мы стараемся поступать так, чтобы воля окружающих нас людей определилась именно сообразно нашему желанию. Мы убеждаем их, мы спорим с ними, мы взываем к их чувству. Это наше влияние на них непременно войдет в число условий, которыми определится их воля. Процесс ее определения будет в этом случае, как и всегда, необходимым процессом; но в раз таре нашей агитации мы совершенно позабудем об этом. Наше внимание сосредоточится не на том обстоятельстве, что воля людей является следствием, а на том, что она бывает, причиной, т. е. в данном случае может вызвать желательные для нас изменения в общественном быту. Таким образом на практике мы будем считаться с волею людей, как будто бы она была свободна. Поступать иначе совершенно невозможно по самой природе явления, называемого самоопределением человеческой воли.
Это прекрасно знали идеалисты-диалектики. Поэтому, рассматривая в теории волю как следствие, они на практике видели в ней причину, т. е. как бы признавали ее свободу. Но это еще совсем не доказывает их прогрессивных стремлений, равно как и не составляет отличительной черты ни диалектического идеализма в частности, ни идеализма вообще. В своей практической философии материалисты (за исключением разве лишь Жака Фаталиста) никогда не высказывали другого взгляда на человеческую волю. Пусть г. Волынский припомнит хотя бы Дидро. Нынешние же материалисты-диалектики особенно хорошо помнят, что на практике воля людей есть необходимый рычаг для перестройки грубых форм исторического существования. Почему же г. Волынский вообразил, что «рычаг» известен только идеалистам? Вероятно, потому, что отличительные признаки идеализма плохо известны г. Волынскому.
Нам сдается, впрочем, что тут была еще и» другая причина. В течение последних десятилетий у нас много рассуждали как раз на ту тему, что воля людей есть необходимый рычаг общественного прогресса. Эта, бесспорная истина, понятная всякому, даже не обучавшемуся в семинарии, была объявлена великим открытием, ее старательно разводили в воде будто бы научного… многословия, ее жевали и пережевывали, ее подпирали разного рода «законами», окружали «формулами», дополняли «поправками» и «поправками к поправкам». Благодаря возне с нею, у нас вдруг явилось множество «наших почтенных социологов», глубокомыслие которых признано всеми благомыслящими россиянами, а известность того и гляди перешагнет за пределы отечества. Слава «наших почтенных социологов» не давала спать г. Волынскому, подобно тому, как слава Мильтиада не давала уснуть Фемистоклу. Но идти по проложенной уже тропе он не хотел. Он ясно видел, что ему, несмотря ни на какие усилия и ужимки, не удалось бы превзойти своих предшественников в плодотворном деле измышления «законов», «формул» и «поправок». И вот он решился выступить на новый путь. Подметив, что «наши почтенные социологи» весьма слабоваты по части философии, он объявил себя идеалистом и пошел, для острастки, поминутно (и всегда всуе) поминать то Шопенгауэра, то Гегеля, то Шеллинга, то Фихте. А так как идеализму приписывали у нас консервативные тенденции, то г. Волынский стал, при каждом удобном и неудобном случае, частью на языке институтки, начитавшейся Марлинского, частью на языке бурсака», сбитого с толку непереваренной «премудростью книжной», а частью, наконец, прямо на языке Утешительного, – твердить своим читателям, что в сущности он, идеалист г. Волынский, нисколько не менее прогрессивен, чем «наши почтенные социологи», но что он, будучи глубже и ученее, может в каждую данную минуту мобилизовать для защиты прогресса целую армию самых страшных философов, между тем как они, «наши почтенные социологи», знают только «формулы» да «поправки». А чтобы у читателя не осталось никакого сомнения насчет его прогрессивных намерений, г. Волынский выдвинул свободную волю как рычаг, и проч. Таким образом выходило, что, раскланявшись с «нашими почтенными социологами» и подчинившись умственному руководительству г. Волынского, читатель целиком сохранил бы издавна любезный ему «рычаг», а в то же время приобрел бы целую уйму философского глубокомыслия. Выгоднее такого обмена ничего и придумать невозможно.
Г. Волынскому хочется уверить своих читателей, что его взгляды заключают в себе полное отрицание тех философских грехов, которых, – надо сознаться, – немало накопилось за русской мыслью, начиная с двадцатых годов и до настоящего времени. На самом же деле, его взгляды являются возведением этих самых грехов в квадрат, если не в четвертую степень. Его теоретическая философия сводится к совершенно бессодержательным фразам; его практическая философия есть не более, как чрезвычайно плохая пародия на нашу «субъективную социологию».
III
Рассуждения г. Волынского об «истинной критике» отличаются такою же бессодержательностью, как и все другие его философские упражнения.
«Изучая деятельность русских критиков, – возвещает он еще в предисловии, – я держался, как это будет видно из самой книги, того мнения, что критика художественных произведений должна быть не публицистическою, а философскою, – должна опираться на твердую систему философских понятий известного идеалистического типа. Она должна следить за тем, как поэтическая идея, возникнув в таинственной глубине человеческого духа, пробивается сквозь пестрый материал жизненных представлений и взглядов автора. Эта поэтическая идея либо перерабатывает факты внешнего опыта и показывает их в том освещении, которое позволяет измерить их истинную значительность, либо, при ограниченности природного таланта писателя, сама разлагается под влиянием его психологических особенностей и фальшивых тенденций его мировоззрения. И настоящая литературная критика должна быть компетентна как в оценке поэтических идей, всегда имеющих отвлеченную природу, так и в раскрытии творческого процесса, который является взаимодействием сознательных и бессознательных сил художника. Искусство может выдать свои тайны только пытливой мысли философа, который в созерцательном экстазе соединяет все конечное с бесконечным, связывает психологические настроения выливающиеся в поэтических образах, с вечными законами мирового развития».Уф! дайте перевести дух… Мы потому сделали эту длинную выписку, что нам хотелось разом ознакомить вас, читатель, с «истинной критикой».
Теперь, если бы вы пять раз перечитали книгу г. Волынского, то и тогда не нашли бы возможности прибавить какие-нибудь новые черты к почтенному, хотя и несколько педантическому, образу этой старушки-критики. Все, что говорит о ней далее наш автор, представляет лишь красноречивые вариации (вам уже знакомо его высокое, красноречие) на тему о необходимости раскрытия творческого процесса и оценки отвлеченных поэтических идей, а также и о пользе созерцательного экстаза. Ото всех этих вариаций веет поистине смертельной скукой, а когда г. Волынский, говоря о каком-нибудь отдельном поэтическом произведении, высказывает травильный взгляд на него, то, при ближайшем рассмотрении, этот взгляд оказывается заимствованным у того самого Белинского, который «не умел спокойно допытываться истины» и не проявлял «самобытного философского таланта». Мучить читателя новыми выписками мы поэтому не станем, а только укажем на то, как чинит г. Волынский суд и расправу над своими предшественниками в области литературной критики.
Призывая их одного за другим к своему философскому трибуналу, он спрашивает:
1) Всегда ли признавал подсудимый некоторые философские понятия «известного идеалистического типа»?