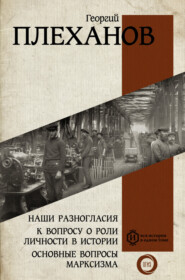По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
А. Л. Волынский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если «Антигону» рассматривали мы вместе с Гегелем, как художественное выражение борьбы двух правовых начал, то мы уже и без Гегеля сумеем рассмотреть, например, «Mariage de Figaro» Бомарше, как выражение борьбы третьего сословия со старым порядком. А раз мы научимся освещать художественные произведения светом такой философии, то нам опять уже не будет никакой надобности в абсолютной идее, но зато надо абсолютно необходимо будет признать, что человек, не отдающий себе ясного отчета в той борьбе, многовековой и многообразный процесс которой составляет историю, – не может быть сознательным художественным критиком.
Смотря на «Mariage de Figaro», как на выражение борьбы третьего сословия со старым порядком, мы, само собою разумеется, не будем закрывать глаз на то, как выражена эта борьба, т. е. оправился ли художник со своею задачею. Содержанием художественного произведения является известная общая или (как выражается г. Волынский, позабыв терминологию «человека, мыслившего вечность») отвлеченная идея. Но там нет и следа художественного творчества, где эта идея так и является в своем «отвлеченном» виде. Художник должен индивидуализировать то общее, что составляет содержание его произведения. А раз мы имеем дело с индивидуумом, то перед нами являются известные психологические процессы, а тут уже не только совершенно уместен, но и вполне обязателен и даже чрезвычайно поучителен психологический анализ. Но психология действующих лиц потому и приобретает в наших глазах огромную важность, что она есть психология целых общественных классов или, по крайней мере, слоев, и что следовательно, процессы, происходящие в душе отдельных лиц, являются отражением исторического движения.
Г. Волынский, может быть, рассердится на нас и обвинит в утилитаризме, скажет, что мы быстрыми шагами приближаемся к точке зрения ненавистной ему публицистической критики. Но мы от его ударов спрячемся за широкую спину «человека, мыслившего вечность». Пусть г. Волынский ведается уже с самим Гегелем.
Гегель, наверное, с величайшим презрением отнесся бы к тем нашим талантам и талантикам, которые обещают показать нам «новую красоту», а пока что не всегда ладят даже и со старой. Он сказал бы, что в их произведениях нет сколько-нибудь значительного содержания. А содержание было великое дело в глазах Гегеля [9 - «Denn der Gehalt ist es, der, wie in allem Menschenwerk, so auch in der Kunst, entscheidet. Die Kunst, ihrem Begriffe nach, hat nichts anderes zu ihrem Beruf, als das in sich selbst Gehaltvolle zu ad?quater, sinnlicher Gegenwart herauszustellen». Aesthetik, II Band, S. 240.]. Известно, например, что на воспевание любовных чувств он смотрел как бы с некоторым недоброжелательством и любил поворчать на поэтов, считающих бог знает каким важным делом, что вот этот (dieser) любит эту (diese), а эта любит этого и не хочет смотреть ни на кого другого, и т. д. Вообще, по его мнению, поэзия еще не приобрела сколько-нибудь значительного содержания, рассказывая, что вот мол «ein Schaf sich verloren, ein M?dchen verliebt» (овечка пропала, девица влюбилась). Такая воркотня, наверное, не понравилась бы нашим проповедникам искусства для искусства, которые увидели бы здесь склонность к публицистической критике, а с г. Волынским могла бы сделаться даже истерика, если бы он хоть на минуту позабыл, что ворчит в данном случае Гегель, а не какой-нибудь «свистун». Вообще нам кажется, что г. Волынский, объявив себя идеалистом, не дал себе вполне ясного отчета в том, сколько еретических мыслей можно найти в 18 томах сочинений Гегеля.
Чтобы не раздражать «настоящего» литературного критика, нам все-таки надо было бы объявить начистоту, за какую именно критику мы стоим: за философскую или публицистическую. Но беда наша в том, что мы сказать этого не можем, так как полагаем, что истинно философская критика является в то же время критикой истинно публицистической.
Мы сейчас объяснимся; но прежде сделаем маленькое замечание по части терминологии. Мы назвали критику известного рода философской единственно потому, что так угодно выражаться г. Волынскому а мы не хотели, высказываю свою мысль, затемнять ее другой терминологией. А на самом деле мы убеждены, что при нынешнем состоянии наших знаний мы уже можем позволить себе роскошь замены старой философской критики и вообще эстетики – научной эстетикой и критикой.
Научная эстетика не дает искусству никаких предписаний; она не говорит ему: ты должно держаться таких-то и таких-то правил и приемов. Она ограничивается наблюдением над тем, как возникают различные правила и приемы, господствующие в различные исторические эпохи. Она не провозглашает вечных законов искусства; она старается изучить те вечные законы, действием которых обусловливается его историческое развитие. Она не говорит: «французская классическая трагедия хороша, а романтическая драма никуда не годится». У нее все хорошо в свое время; у нее нет пристрастий именно к тем, а не к другим школам в искусстве; а если (как это мы увидим ниже) у нее и возникают подобные пристрастия, то она, по крайней мере, не оправдывает их ссылками на вечные законы искусства. Словом, она объективна, как физика, и именно потому чужда всякой метафизики. И вот эта-то объективная критика, говорим мы, оказывается публицистической именно постольку, поскольку она является истинно научной.
Чтобы пояснить нашу мысль, вернемся к Гизо, объявившему «классическую систему» созданием высших классов французского общества. Представьте себе, что он в своем этюде не ограничился несколькими отдельными замечаниями и указаниями, а, подробно охарактеризовав искусственность, царившую в нравах аристократии, вместе с этим подробно показал, на какой именно социальной почве она возникла и какую именно степень унижения третьего сословия она собою знаменовала. Представьте себе также, что все это он написал совершенно объективно, как поседелый в приказе дьяк, который
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева…
Представьте себе, наконец, что это объективное «сказанье» критики читается человеком, принадлежащим к буржуазии. Если этот человек не совершенно беззаботен насчет исторических судеб своего класса, то он, наверное, почувствует в своей душе неприязнь к тому порядку вещей, при котором дворянство и духовенство могли культивировать «тонкое обращение», сидя на спине tiers-еtat. A так как этюд Гизо появился в то время, когда была в самом разгаре последняя борьба между старым порядком и новым буржуазным обществом, то мы можем с уверенностью сказать, что он имел не малое публицистическое значение и что это значение было бы еще больше, если бы автор дольше остановился на исторической причинной связи между старым порядком и «классической системой». Тогда историко-литературное исследование легко могло бы, ни да минуту не переставая удовлетворять самым строгим требованиям науки, оказаться, даже против воли автора, горячим воззванием публициста. «Поэт, даже когда он учит терпению, растравляет раны сердца, потому что всегда сильно потрясает его» (сказал Фосколо). О научной критике можно сказать, что она тем ярче оттеняет общественное зло, чем объективнее ее анализ, т. е. чем ярче и рельефнее она это зло изображает.
Внушать критике: ты не должна ударяться в публицистику, – так же бесполезно, как и разглагольствовать о «вечных» законах искусства. Если вас и послушают, то лишь до поры, до времени, т. е. до тех пор, пока, под влиянием общественного развития, не изменятся господствующие вкусы и не будут открыты новые «вечные» законы искусства. Враг публицистики, г. Волынский, по-видимому, и не подозревает, что есть эпохи, когда не только критика, но и само художественное творчество бывает полно публицистического духа. Разве эта холодная пышность и это холодное царственное величие, которыми дышит искусство «века Людовика XIV», не являются отчасти публицистикой? Разве они не являются сознательно внесенными в творчество ради возвеличения известной политической идеи? Разве нет публицистического элемента в картинах Давида или в так называемой мещанской драме? Есть; его даже, если вам угодно, слишком много. Но что же прикажете с этим делать? Если существуют действительно вечные законы искусства, то это те, в силу которых в известные исторические эпохи публицистика неудержимо врывается в область художественного творчества и распоряжается там, как у себя дома.
То же и с критикой. Во все переходные общественные эпохи она пропитывается духом публицистики, а частью и прямо становится публицистикой. Дурно это или хорошо? C'est selon! Но главное – это неизбежно, и против этой болезни никакого медицинского снадобья никто еще не придумал.
Постойте, постойте! мы ошиблись: есть одно! Состоит оно не в чем ином, как в распространении здравого взгляда на научную критику. Кто раз узнал великую общественную силу этой критики, тот уже не захочет браться за орудие критики «публицистической» в кавычках, подобно тому, как человек, узнавший силу магазинного ружья, не вернется к первобытному луку.
Помните ли вы статью Писарева «Стоячая вода»? Это уже публицистическая критика в полнейшем смысле слова. Хотя под заглавием статьи и стоит в скобках: Сочинения А. Ф. Писемского и проч., но о сочинениях Писемского в ней упоминается совершенно мимоходом, о чем сам автор доводит, впрочем, до сведения читателя в первых же строках. Вообще же в статье речь идет о нашей отсталости, безличности, безгласности, инертности, о наших предрассудках, о дикости наших семейных отношений, об угнетении женщины и т. п. Все эти наши отрицательные качества рассматриваются как простой результат нашей умственной неразвитости, против которой и направляется страстная проповедь автора. Словом, Писарев стоит здесь, как и везде, на той точке зрения, которую немцы называют просветительской, и с которой видна лишь абстрактная противоположность между истиной и заблуждением, между знанием и невежеством, между умственною отсталостью, и умственным развитием. Спора нет: Писарев прекрасно бичует наше отсталое общество, но его горячая проповедь, порицая невежество и клеймя самодурство, не указывает сколько-нибудь действительных средств борьбы с ними. Сказать: учитесь, развивайтесь – это все равно, что воскликнуть: покайтесь, братья! Время идет, а мы все что-то плохо каемся. Очевидно, существуют какие-то общие причины как нашей неразвитости, так и нашей нераскаянности. Пока не открыты и не указаны эти общие причины, до тех пор проповедь знания не принесет и сотой доли тех плодов, которые она способна принести. Да и сам проповедник поневоле будет полон сомнений. Уж, кажется, трудно горячее верить во всеспасающую силу знания, чем верил в нее Писарев; кажется, трудно представить себе тип, лучше приспособленный для борьбы с самодурствам и с предрассудками, чем Базаров, у которого, по словам Писарева, есть и знания, и воля. А между тем, как же понимает Писарев деятельность, предстоявшую Базарову? Перечитайте окончание статьи «Базаров» – оно поразит вас своим грустным, безнадежным тонам: «А Базаровым все-таки плохо жить на свете, хотя они припевают и посвистывают. Нет деятельности, нет любви, – стало быть, нет и наслаждения. Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют только, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно». Отчего же нет деятельности? Да все оттого, что уж очень велика сила нашей отсталости, безличности, безгласности, инертности и прочих наших отрицательных качеств, так часто вызывавших красноречивое негодование Писарева. Пока эти качества не поняты, как «исторические категории», пока они не объяснены, как преходящие явления, пока их возникновение, равно как их будущее исчезновение, не приурочены к историческому развитию наших общественных отношений, – до тех пор они по необходимости должны представляться какой-то непобедимой силой, какой-то непреодолимой сущностью, несокрушимой «вещью в себе», к которой Базарову, несмотря на все его знания и на всю его твердую волю, нельзя и подступиться. А оттого ему и приходится, махнув рукой на окружающую общественную жизнь, искать спасения в «лаборатории».
Французские «философы» XVIII века тоже горячо верили в силу разума, но и они тоже нередко приходили к тому горькому выводу, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно и что для мыслящего человека нет деятельности. Вообще надо помнить, что у всех «просветителей» (Aufkl?rer, как выражаются немцы) твердая вера в силу разума сопровождалась столь же сильной верой в силу невежества, так что их настроение постоянно изменялось, смотря по тому, какая именно вера временно брала у них перевес.
Итак, сила и действие публицистической критики Писарева необходимо должны были ослабляться благодаря той точке зрения, на которой он стоял. Держась ее, можно было написать горячее обличение невежества и самодурства, но нельзя было указать тех роковых общественных сил, еще несравненно более могучих, чем всякое невежество и всякое самодурство, которые, действуя, как все стихийные силы, в то же время расчищают почву для благородного и осмысленного труда людей, обладающих доброй волей и настоящим знанием. Если бы, вместо горячей статьи «Стоячая вода», Писарев написал совершенно спокойный и даже холодный разбор повести Писемского «Тюфяк», рассматривая эту повесть, как изображение темных сторон быта, уже ниспровергнутого историей («Стоячая вода» напечатана в октябре 1861 года), то его спокойная речь ободрительнее подействовала бы на читателей, чем простые, хотя и талантливые, нападки на слабохарактерность и тупоумие.
Но в таком случае Писареву надо было бы, изменив весь характер своей литературной деятельности, взяться за социологические исследования, заметит нам читатель.
Справедливо – ответим мы. Во времена Писарева русскому писателю невозможно было стать на указываемую нами точку зрения, не решив предварительно собственным умом целого ряда основных социологических вопросов. Всякий, кто вздумал бы искать их решения, был бы вполне потерян для деятельности литературного критика. Но ведь мы не думаем винить Писарева; мы говорим только, что странно было бы теперь заниматься такой критикой, какой он должен был заниматься по обстоятельствам своего времени.
Теперь возможна научная литературная критика, потому что теперь уже установлены некоторые необходимые prolegomena общественной науки. А раз возможна научная критика, то публицистическая критика, как нечто от нее отдельное и независимое, становится смешным архаизмом. Вот все, что мы хотим сказать.
До сих пор мы предполагали, что люди, занимающиеся научной критикой, должны и могут оставаться в своих писаниях холодными, как мрамор, невозмутимыми, как дьяки, поседелые в приказе. Но такое предположение, в сущности, излишне. Если научная критика смотрит на историю искусства, как на результат общественного развития, то ведь и сама она есть плод такого развития. Если история и современное положение данного общественного класса необходимо порождают в нем именно такие, а не другие эстетические вкусы и художественные пристрастия, то у научных критиков тоже могут явиться свои определенные вкусы и пристрастия, потому что ведь не с неба же сваливаются и эти критики, потому что ведь и они тоже порождаются историей. Возьмем опять того же Гизо. Он был научным критиком, поскольку он умел связать историю литературы с историей классов в новейшем обществе. Указывая на такую связь, он провозглашал вполне научную объективную истину. Но эта связь стала заметна для него единственно потому, что история поставила его класс в известное отрицательное отношение к старому порядку. Не будь этого отрицательного отношения, исторические последствия которого вообще неисчислимы, не была бы открыта и объективная истина, очень важная для истории литературы. Но именно потому, что самое открытие этой истины было плодом истории и происходивших в ней столкновений реальных общественных сил, оно должно было сопровождаться определенным субъективным настроением, которое, в свою очередь, должно было найти известное литературное выражение. И в самом деле Гизо говорит не только о связи литературных вкусов с общественными порядками. Он осуждает некоторые из этих порядков; он доказывает, что художник не должен подчиняться капризам высших классов; он советует поэту не служить своей лирой никому, кроме «народа».
Научная критика настоящего времени имеет полное право походить в этом отношении на критику Гизо. Разница только в том, что дальнейшее историческое развитие современного общества точнее определило нам, из каких противоположных элементов состоял тот «народ», во имя которого Гизо осуждал старый порядок, и яснее показало нам, – какой именно из оных элементов имеет действительно прогрессивное историческое значение.
notes
Сноски
1
Hume, sa vie, sa philosophie, Paris 1880, p. 108. Надобно заметить, впрочем, что чувствительностью обладают, по-видимому, уже такие организмы, у которых еще нет отдельной нервной системы.
2
Давид говорил о себе: je n'aime ni je ne sens le merveilleux; je ne puis marcher ? l'aise qu'avec le secours d'un fait rеel (Delecluze, L. David, son еcole et son temps, Paris 1895, p. 338). Это чрезвычайно характерно для XVIII века вообще и для второй половины его в особенности. Рассудочность была свойственна тогда всем (а особенно передовым людям); поэтому она нравилась и в манере Давида и его школы. А в XIX веке эту самую рассудочность поставили ему в вину, горько упрекая его в недостатке воображения.
3
Vorlesungen ?ber die Aesthetik, 1-er Band, Berlin 1835, S. 216–217, Ср. также В. II, S. 222–223.
4
L'Art du dix-huiti?me si?cle, t. I, 3 еd., Paris 1880. p.p. 135–136 и 145.
5
См. «Gеricaud еtude biographique et critique» par Сh. Clement, Paris 1858, p. 243.
6
L. c., Introduction, p. 4.
7
Исключения крайне редки, и их можно не брать в расчет.
8
Другими словами, живопись Давида – его рисунок, колорит, композиция – нравилась тем поколениям, которые знали ее в одной ассоциации идей, и показалась неудовлетворительной и даже прямо неприятной другим поколениям, у которых, благодаря непрерывному ходу общественного развития, она, эта живопись, ассоциировалась с другими идеями и представлениями. То же можно сказать и обо всех школах в искусстве, когда-либо игравших большую роль, а затем удаленных со сцены явившейся против них реакцией.
9
«Denn der Gehalt ist es, der, wie in allem Menschenwerk, so auch in der Kunst, entscheidet. Die Kunst, ihrem Begriffe nach, hat nichts anderes zu ihrem Beruf, als das in sich selbst Gehaltvolle zu ad?quater, sinnlicher Gegenwart herauszustellen». Aesthetik, II Band, S. 240.