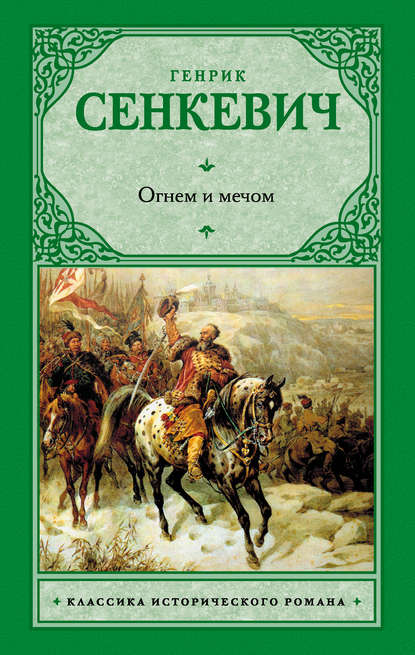По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зачем звали? – поинтересовались они.
– Мне в дорогу сегодня.
– Куда же? Куда это?
– В Чигирин, а оттуда – дальше.
– Тогда пойдем-ка со мною, – сказал Скшетуский.
И, пришед с ним к себе на квартиру, давай упрашивать Быховца, чтобы тот ему поручение уступил.
– Ежели ты друг, – говорил он, – проси, чего хочешь, коня турецкого, скакуна, не пожалею, только бы поехать, потому как душа моя в те стороны рвется! Денег хочешь – пожалуй, только уступи. Славы особой там не добудешь, потому что прежде того война, если ей суждено быть, начнется – а погибнуть можно. Я ведь знаю, Ануся тебе, как и многим, мила – а уедешь, ее у тебя и отобьют.
Последний аргумент более прочих подействовал на пана Быховца, однако на уговоры он не поддавался. Что скажет князь, если он согласится. Не осерчает ли? Такое поручение – фавор от князя.
Скшетуский тотчас поспешил к князю и попросил немедленно о себе доложить.
Спустя минуту паж сообщил, что князь дозволяет войти.
Сердце стучало в груди наместника, опасавшегося услышать краткое «нет!», после чего пришлось бы на всем поставить крест.
– Что скажешь? – молвил князь.
Скшетуский бросился к его ногам.
– Светлейший княже, я пришел покорнейше умолять, чтобы поездка на Сечь была поручена мне. Быховец по дружбе, может, и уступил бы, потому что мне она важнее жизни, да только он опасается, не будешь ли ты, ваша княжеская светлость, сердит на него.
– Господи! – воскликнул князь. – Да я бы никого другого, кроме тебя, и не послал бы, но показалось мне, что ты поедешь неохотно, недавно столь долгую дорогу проделав.
– Светлейший княже, хоть бы и каждый день был я посылаем, всегда libenter[46 - охотно (лат.).] в те стороны ездить буду.
Князь остановил на нем долгий взгляд черных своих глаз и, помолчав, спросил:
– Что же у тебя там такое?
Наместник, не умея вынести испытующего взгляда, смешался, словно в чем-то провинился.
– Видно, придется рассказать все как есть, – сказал он, – ибо от проницательности вашего княжеского сиятельства никакие arcana[47 - тайны (лат.).] утаить не можно; не знаю только – отнесется ли ваша милость с сочувствием к словам моим.
И он стал рассказывать, как познакомился с дочкой князя Василя, как влюбился в нее и как жаждет теперь ее навестить, а по возвращении из Сечи увезти в Лубны, чтобы от казацкого разгула и Богуновых домогательств уберечь. Умолчал он только о махинациях старой княгини, ибо тут связывало его слово. Зато он так стал умолять князя, чтобы функции Быховца ему перепоручил, что князь сказал:
– Я бы тебе и так поехать дозволил, и людей бы дал, но коль скоро ты столь разумно придумал собственную склонность сердечную с моим поручением согласить, остается мне пойти навстречу.
Сказав это, он хлопнул в ладоши и велел пажу позвать пана Быховца.
Обрадованный наместник припал к руке князя, а тот стиснул в ладонях голову его и велел не падать духом. Он бесконечно любил Скшетуского, дельного воина и офицера, на которого во всем можно было положиться. К тому же меж них существовала связь, какая возникает между подчиненным, всею душою любящим начальника, и начальником, который это знает и чувствует. Возле князя толпилось немало придворных, служивших или угодничавших ради собственной корысти, но орлиный ум Иеремии хорошо видел, кто чего стоит. Знал он, что Скшетуский как человек – прозрачнее слезы, а потому ценил его и за преданность платил благодарностью.
С радостью услышал он, что любимец его избрал дочку Василя Курцевича, старого слуги Вишневецких, память о котором была князю тем дороже, чем печальнее.
– Не из неблагодарности ко князю, – сказал он, – не справлялся я о девушке, но потому, что опекуны не бывали в Лубнах, а жалоб никаких я на них не получал, и полагал посему, что они люди достойные. Но уж коли ты мне сейчас о княжне рассказал, я, как о родной, о ней помнить буду.
Скшетуский, слыша такое, не мог не подивиться доброте господина своего, который как бы сам себя упрекал за то, что посреди обширных своих трудов не занялся судьбою дитяти старого солдата и дворянина.
Между тем явился Быховец.
– Любезный сударь, – обратился к нему князь, – слово сказано: желаешь – поезжай, но я прошу, уступи ты ради меня это поручение Скшетускому. У него на то есть свои особые резоны, а я уж, сударь, для тебя взамен что-нибудь придумаю.
– Ваше сиятельство, – ответил Быховец, – величайшая это милость от вашего сиятельства, что, имея право приказать, ты полагаешь дело на мое усмотрение. И недостоин был бы я такой милости, не прими я ее с наиблагодарнейшим сердцем.
– Поблагодари же своего товарища, – обратился князь к Скшетускому, – и ступай собираться.
Скшетуский стал горячо благодарить Быховца и через несколько часов был готов в дорогу. В Лубнах ему уже давно не сиделось, а поездка соответствовала всем его намерениям. Сперва ему предстояло повидать Елену, а потом, увы, расстаться с нею на долгое время, правда, именно это время и нужно было, чтобы после небывалых дождей дороги стали проезжими для колесного передвижения. Прежде того княгиня с Еленой добраться до Лубен бы не смогли, поэтому Скшетускому оставалось ждать или в Лубнах, или перебраться в Разлоги, что было противно договору с княгиней и, самое главное, возбудило бы подозрения Богуна. В полной безопасности от притязаний последнего Елена могла себя чувствовать только в Лубнах, но, поскольку она была вынуждена долгое время оставаться в Разлогах, лучше всего Скшетускому было уехать, а на обратном пути под охраною княжеского отряда увезти ее с собою. Все таким образом обдумав, наместник торопился с отъездом и, получив от князя инструкции и письма, а деньги на поездку от скарбничего, задолго до наступления ночи пустился в дорогу; прихватив Редзяна и имея при себе сорок верховых из казацкой княжеской хоругви.
Глава VII
Была уже вторая половина марта. Травы буйно пошли в рост, зацвели перекати-поле, степь закипела жизнью. Наутро пан Скшетуский в челе своих людей ехал словно бы по морю, бегучею волной которого была колеблемая ветром трава. А вокруг бесконечно было радости и весенних голосов: кликов, чиликанья, посвистов, щелканья, трепетания крыл, гудения насекомых; степь звучала лирою, на которой бряцала рука Господня. Над головами ездоков ястребы, словно подвешенные крестики, неподвижно стояли в лазури, дикие гуси летели клином, проплывали станицы журавлей; на земле же – гон одичалых табунов: вон мчатся степные кони, видишь, как вспарывают они грудью травы, летят, словно буря, и останавливаются как вкопанные, полукольцом окружая всадников; гривы их разметались, ноздри раздуты, очи удивленные! Кажется – растоптать готовы незваных гостей. Но мгновение – и вдруг срываются с места, и пропадают так же быстро, как примчались, только трава шумит, только цветики мелькают! Топот утихнул, и опять слышна громкая птичья разноголосица. И все бы, кажется, радостно, но есть какая-то печаль в радости этой, шумливо вроде бы, а пусто, – гей! – а широко, а просторно! Конем не достичь, мыслью не постичь… Разве что печаль эту, безлюдье это, степи эти полюбить и смятенною душою кружить над ними, спать вечным сном в их курганах, голоса степные внимать и самому откликаться.
Стояло утро. Крупные капли сверкали на полыни и бурьяне, свежие дуновения ветра просушивали землю, на которой дожди оставили обширные лужи, разлившиеся озерками и сиявшие на солнце. Отряд наместника медленно продвигался вперед, ибо трудно поспешать, когда лошади то и дело проваливаются по колено в мягкую землю. Наместник, однако, не позволял подолгу отдыхать на могильных буграх – он спешил встретиться и проститься. Этак к полудню следующего дня, проехав полоску леса, увидел он ветряки Разлогов, разбросанные по холмам и ближним курганам. Сердце в груди Скшетуского застучало, как молот. Его не ждут, никто о его приезде не знает: что скажет она, когда он появится? А вон, вон уже хаты п i д с у с i д к о в, потонувшие в молодых садах вишневых; далее раскиданная деревенька холопей, а еще далее завиднелся и колодезный журавль на господском майдане. Наместник поднял коня и погнал его в галоп. За ним кинулись остальные; так и полетели они по деревне со звоном и криками. Здесь и там селянин показывался из хаты, глядел, крестился: черти не черти, татары не татары. Грязь из-под копыт летит так, что не поймешь, кто скачет. А они доскакали уже до майдана и осадили перед затворенными воротами.
– Эй вы там! Отворяй, кто живой!
На шум, стук и собачий лай прибежали со двора люди. В испуге приникли они к воротам, решив, что на усадьбу напали.
– Кто такие?
– Отворяй!
– Князей дома нету.
– Отворяй же, собачий сын! Мы от князя из Лубен.
Наконец челядь узнала Скшетуского.
– Это ваша милость! Сейчас мы, сейчас!
Ворота отворились, а тут и сама княгиня вышла на крыльцо, воззрившись из-под ладони на гостей.
Скшетуский спрыгнул с коня и, подойдя к ней, сказал:
– Не узнаешь, ваша милость сударыня?
– Ах! Вы ли это, сударь наместник? А я уж думаю, татары напали. Кланяюсь и милости прошу в дом.
– Удивляешься, верно, любезная сударыня, – сказал Скшетуский, когда вошли, – видя меня в Разлогах, а ведь я слова не нарушил. Это князь меня в Чигирин, а затем и далее посылает. Он велел и в Разлогах остановиться, о здоровье вашем справиться.
– Благодарствую его княжескому сиятельству, милостивому господину и благодетелю нашему. Скоро ли он задумал нас из Разлогов сгонять?
– Князь вообще об этом не помышляет, не зная, что прогнать бы вас не мешало; а я что сказал, тому и быть. Останетесь вы в Разлогах, у меня своего добра хватит.
– Мне в дорогу сегодня.
– Куда же? Куда это?
– В Чигирин, а оттуда – дальше.
– Тогда пойдем-ка со мною, – сказал Скшетуский.
И, пришед с ним к себе на квартиру, давай упрашивать Быховца, чтобы тот ему поручение уступил.
– Ежели ты друг, – говорил он, – проси, чего хочешь, коня турецкого, скакуна, не пожалею, только бы поехать, потому как душа моя в те стороны рвется! Денег хочешь – пожалуй, только уступи. Славы особой там не добудешь, потому что прежде того война, если ей суждено быть, начнется – а погибнуть можно. Я ведь знаю, Ануся тебе, как и многим, мила – а уедешь, ее у тебя и отобьют.
Последний аргумент более прочих подействовал на пана Быховца, однако на уговоры он не поддавался. Что скажет князь, если он согласится. Не осерчает ли? Такое поручение – фавор от князя.
Скшетуский тотчас поспешил к князю и попросил немедленно о себе доложить.
Спустя минуту паж сообщил, что князь дозволяет войти.
Сердце стучало в груди наместника, опасавшегося услышать краткое «нет!», после чего пришлось бы на всем поставить крест.
– Что скажешь? – молвил князь.
Скшетуский бросился к его ногам.
– Светлейший княже, я пришел покорнейше умолять, чтобы поездка на Сечь была поручена мне. Быховец по дружбе, может, и уступил бы, потому что мне она важнее жизни, да только он опасается, не будешь ли ты, ваша княжеская светлость, сердит на него.
– Господи! – воскликнул князь. – Да я бы никого другого, кроме тебя, и не послал бы, но показалось мне, что ты поедешь неохотно, недавно столь долгую дорогу проделав.
– Светлейший княже, хоть бы и каждый день был я посылаем, всегда libenter[46 - охотно (лат.).] в те стороны ездить буду.
Князь остановил на нем долгий взгляд черных своих глаз и, помолчав, спросил:
– Что же у тебя там такое?
Наместник, не умея вынести испытующего взгляда, смешался, словно в чем-то провинился.
– Видно, придется рассказать все как есть, – сказал он, – ибо от проницательности вашего княжеского сиятельства никакие arcana[47 - тайны (лат.).] утаить не можно; не знаю только – отнесется ли ваша милость с сочувствием к словам моим.
И он стал рассказывать, как познакомился с дочкой князя Василя, как влюбился в нее и как жаждет теперь ее навестить, а по возвращении из Сечи увезти в Лубны, чтобы от казацкого разгула и Богуновых домогательств уберечь. Умолчал он только о махинациях старой княгини, ибо тут связывало его слово. Зато он так стал умолять князя, чтобы функции Быховца ему перепоручил, что князь сказал:
– Я бы тебе и так поехать дозволил, и людей бы дал, но коль скоро ты столь разумно придумал собственную склонность сердечную с моим поручением согласить, остается мне пойти навстречу.
Сказав это, он хлопнул в ладоши и велел пажу позвать пана Быховца.
Обрадованный наместник припал к руке князя, а тот стиснул в ладонях голову его и велел не падать духом. Он бесконечно любил Скшетуского, дельного воина и офицера, на которого во всем можно было положиться. К тому же меж них существовала связь, какая возникает между подчиненным, всею душою любящим начальника, и начальником, который это знает и чувствует. Возле князя толпилось немало придворных, служивших или угодничавших ради собственной корысти, но орлиный ум Иеремии хорошо видел, кто чего стоит. Знал он, что Скшетуский как человек – прозрачнее слезы, а потому ценил его и за преданность платил благодарностью.
С радостью услышал он, что любимец его избрал дочку Василя Курцевича, старого слуги Вишневецких, память о котором была князю тем дороже, чем печальнее.
– Не из неблагодарности ко князю, – сказал он, – не справлялся я о девушке, но потому, что опекуны не бывали в Лубнах, а жалоб никаких я на них не получал, и полагал посему, что они люди достойные. Но уж коли ты мне сейчас о княжне рассказал, я, как о родной, о ней помнить буду.
Скшетуский, слыша такое, не мог не подивиться доброте господина своего, который как бы сам себя упрекал за то, что посреди обширных своих трудов не занялся судьбою дитяти старого солдата и дворянина.
Между тем явился Быховец.
– Любезный сударь, – обратился к нему князь, – слово сказано: желаешь – поезжай, но я прошу, уступи ты ради меня это поручение Скшетускому. У него на то есть свои особые резоны, а я уж, сударь, для тебя взамен что-нибудь придумаю.
– Ваше сиятельство, – ответил Быховец, – величайшая это милость от вашего сиятельства, что, имея право приказать, ты полагаешь дело на мое усмотрение. И недостоин был бы я такой милости, не прими я ее с наиблагодарнейшим сердцем.
– Поблагодари же своего товарища, – обратился князь к Скшетускому, – и ступай собираться.
Скшетуский стал горячо благодарить Быховца и через несколько часов был готов в дорогу. В Лубнах ему уже давно не сиделось, а поездка соответствовала всем его намерениям. Сперва ему предстояло повидать Елену, а потом, увы, расстаться с нею на долгое время, правда, именно это время и нужно было, чтобы после небывалых дождей дороги стали проезжими для колесного передвижения. Прежде того княгиня с Еленой добраться до Лубен бы не смогли, поэтому Скшетускому оставалось ждать или в Лубнах, или перебраться в Разлоги, что было противно договору с княгиней и, самое главное, возбудило бы подозрения Богуна. В полной безопасности от притязаний последнего Елена могла себя чувствовать только в Лубнах, но, поскольку она была вынуждена долгое время оставаться в Разлогах, лучше всего Скшетускому было уехать, а на обратном пути под охраною княжеского отряда увезти ее с собою. Все таким образом обдумав, наместник торопился с отъездом и, получив от князя инструкции и письма, а деньги на поездку от скарбничего, задолго до наступления ночи пустился в дорогу; прихватив Редзяна и имея при себе сорок верховых из казацкой княжеской хоругви.
Глава VII
Была уже вторая половина марта. Травы буйно пошли в рост, зацвели перекати-поле, степь закипела жизнью. Наутро пан Скшетуский в челе своих людей ехал словно бы по морю, бегучею волной которого была колеблемая ветром трава. А вокруг бесконечно было радости и весенних голосов: кликов, чиликанья, посвистов, щелканья, трепетания крыл, гудения насекомых; степь звучала лирою, на которой бряцала рука Господня. Над головами ездоков ястребы, словно подвешенные крестики, неподвижно стояли в лазури, дикие гуси летели клином, проплывали станицы журавлей; на земле же – гон одичалых табунов: вон мчатся степные кони, видишь, как вспарывают они грудью травы, летят, словно буря, и останавливаются как вкопанные, полукольцом окружая всадников; гривы их разметались, ноздри раздуты, очи удивленные! Кажется – растоптать готовы незваных гостей. Но мгновение – и вдруг срываются с места, и пропадают так же быстро, как примчались, только трава шумит, только цветики мелькают! Топот утихнул, и опять слышна громкая птичья разноголосица. И все бы, кажется, радостно, но есть какая-то печаль в радости этой, шумливо вроде бы, а пусто, – гей! – а широко, а просторно! Конем не достичь, мыслью не постичь… Разве что печаль эту, безлюдье это, степи эти полюбить и смятенною душою кружить над ними, спать вечным сном в их курганах, голоса степные внимать и самому откликаться.
Стояло утро. Крупные капли сверкали на полыни и бурьяне, свежие дуновения ветра просушивали землю, на которой дожди оставили обширные лужи, разлившиеся озерками и сиявшие на солнце. Отряд наместника медленно продвигался вперед, ибо трудно поспешать, когда лошади то и дело проваливаются по колено в мягкую землю. Наместник, однако, не позволял подолгу отдыхать на могильных буграх – он спешил встретиться и проститься. Этак к полудню следующего дня, проехав полоску леса, увидел он ветряки Разлогов, разбросанные по холмам и ближним курганам. Сердце в груди Скшетуского застучало, как молот. Его не ждут, никто о его приезде не знает: что скажет она, когда он появится? А вон, вон уже хаты п i д с у с i д к о в, потонувшие в молодых садах вишневых; далее раскиданная деревенька холопей, а еще далее завиднелся и колодезный журавль на господском майдане. Наместник поднял коня и погнал его в галоп. За ним кинулись остальные; так и полетели они по деревне со звоном и криками. Здесь и там селянин показывался из хаты, глядел, крестился: черти не черти, татары не татары. Грязь из-под копыт летит так, что не поймешь, кто скачет. А они доскакали уже до майдана и осадили перед затворенными воротами.
– Эй вы там! Отворяй, кто живой!
На шум, стук и собачий лай прибежали со двора люди. В испуге приникли они к воротам, решив, что на усадьбу напали.
– Кто такие?
– Отворяй!
– Князей дома нету.
– Отворяй же, собачий сын! Мы от князя из Лубен.
Наконец челядь узнала Скшетуского.
– Это ваша милость! Сейчас мы, сейчас!
Ворота отворились, а тут и сама княгиня вышла на крыльцо, воззрившись из-под ладони на гостей.
Скшетуский спрыгнул с коня и, подойдя к ней, сказал:
– Не узнаешь, ваша милость сударыня?
– Ах! Вы ли это, сударь наместник? А я уж думаю, татары напали. Кланяюсь и милости прошу в дом.
– Удивляешься, верно, любезная сударыня, – сказал Скшетуский, когда вошли, – видя меня в Разлогах, а ведь я слова не нарушил. Это князь меня в Чигирин, а затем и далее посылает. Он велел и в Разлогах остановиться, о здоровье вашем справиться.
– Благодарствую его княжескому сиятельству, милостивому господину и благодетелю нашему. Скоро ли он задумал нас из Разлогов сгонять?
– Князь вообще об этом не помышляет, не зная, что прогнать бы вас не мешало; а я что сказал, тому и быть. Останетесь вы в Разлогах, у меня своего добра хватит.