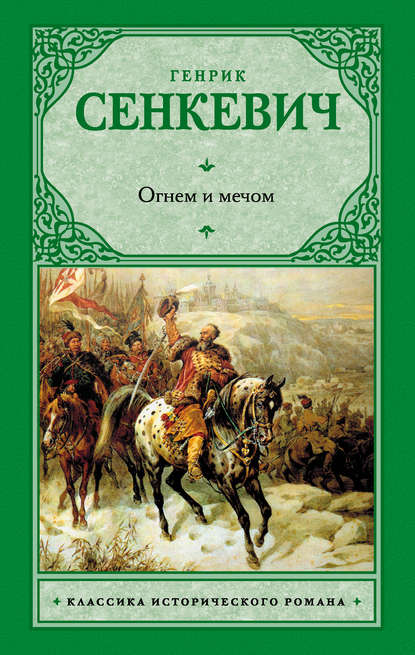По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В глубине леса на узкой наезженной крестьянами тропке показался Богун. Конь его был в мыле и грязи.
Видно, казак по привычке своей пустился в степи и чащобы, захмелеть от ветра, затеряться да забыться в просторах и то, отчего душа болела, переболеть.
Теперь он возвращался в Разлоги.
Глядя на великолепную эту, поистине рыцарскую фигуру, мелькнувшую вдалеке и сразу же пропавшую, пан Скшетуский на миг задумался и пробормотал:
– Да уж… счастье, что он кого-то на ее глазах располовинил…
Но тут словно бы сожаление стиснуло сердце, словно бы стало ему Богуна жаль, но еще более пожалел он, что, связанный данным княгине словом, не мог сразу же, не мешкая погнать коня вслед казаку и сказать: «Мы любим одну, а значит, один из нас на свете лишний! Доставай, казаче, саблю!»
Глава V
Прибывши в Лубны, пан Скшетуский князя не застал, так как тот к пану Суффчинскому, старому своему дворянину, в Сенчу уехал. С князем отбыли княгиня, обе панны Збаражские и множество особ, состоявших при дворе. В Сенчу немедленно дано было знать о возвращении наместника из Крыма и прибытии посла. Между тем знакомые и сотоварищи радостно приветствовали Скшетуского после долгой разлуки, а более других пан Володыёвский, который после их очередного поединка сделался самым близким другом наместнику. Кавалер сей отличался тем, что постоянно бывал влюблен. Убедившись в коварстве Ануси Борзобогатой, он обратил свое нежное сердце к Анеле Ленской, тоже панне из фрауциммера, но, когда и она буквально месяц назад обвенчалась с паном Станишевским, Володыёвский, чтобы утешиться, принялся вздыхать по старшей княжне Збаражской – Анне, племяннице князя Вишневецкого.
Увы, он и сам понимал, что, столь высоко замахнувшись, не мог и малейшей питать надежды, тем более что от имени пана Пшиемского, сына ленчицкого воеводы, уже заявились сватать княжну пан Бодзинский и пан Ляссота. Поэтому злосчастный Володыёвский сообщил нашему наместнику новые свои огорчения, посвящая его в придворные дела и тайны, что последний выслушивал краем уха, имея мысль и сердце занятые другим. Когда бы не душевное смятение это, любови, хоть и взаимной, всегда сопутствующее, Скшетуский был бы совершенно счастлив, после долгой отлучки вернувшись в Лубны, где его окружили друзья и кутерьма привычной с давних лет солдатской жизни. Лубны, будучи княжеским замком-резиденцией и великолепием своим не уступая любым резиденциям «королят», отличались все же тем, что житье здесь было суровым, почти походным. Кто не знал здешних порядков и обычаев, тот, приехав даже в наиспокойнейшую пору, мог подумать, что тут к какой-то военной кампании готовятся. Солдат преобладал здесь числом над дворянином, железо предпочиталось золоту, голос бивачных труб – шуму пиров и увеселений. Повсюду царил образцовый порядок и неведомая нигде более дисциплина; повсюду не счесть было рыцарства, приписанного к различным хоругвям: панцирным, драгунским, казацким, татарским и валашским, в которых служило не только Заднепровье, но и охочекомонная шляхта со всех концов Речи Посполитой. Всяк стремившийся пройти науку в подлинно рыцарской школе влекся в Лубны; так что наряду с русинами были тут и мазуры, и литва, и малополяне, и даже – что совсем уж удивительно – пруссаки. Пехотные регименты и артиллерия, иначе называемая «огневой люд», сформированы были в основном из опытнейших немцев, нанятых за высокое жалованье; в драгунах служили, как правило, местные. Литва – в татарских хоругвях. Малополяне записывались охотнее всего под панцирные знамена. Князь не давал рыцарству бездельничать; в лагере не прекращалось постоянное движение. Одни полки уходили сменить гарнизоны в крепостцы и заставы, другие возвращались в Лубны; целыми днями проводились учения и муштра. Время от времени, хотя от татар беспокойства не ожидалось, князь предпринимал далекие вылазки в глухие степи и пустыни, чтобы приучить солдат к походам и, добравшись туда, куда до сих пор никто не добирался, разнести славу имени своего. В прошлую осень, к примеру, идучи левым берегом Днепра, пришел он до самого Кудака, где пан Гродзицкий, начальник тамошнего гарнизона, принимал его, как удельного монарха; потом пошел вдоль порогов до самой Хортицы, а на Кичкасовом урочище велел груду огромную из камней насыпать в память и в знак того, что этой дорогою ни один еще властелин не забирался столь далеко.[31 - Это слова Маскевича, который мог не знать о пребывании на Сечи Самуэля Зборовского. – Примеч. автора.]
Пан Богуслав Маскевич, жолнер добрый, хотя в молодых летах, к тому же и человек ученый, описавший, как и прочие княжеские походы, предприятие это, рассказывал о нем дива дивные, а пан Володыёвский незамедлительно все подтверждал, ибо тоже ходил с ними. Повидали они пороги и поражались им, особенно же страшному Ненасытцу, который всякий год, как некогда Сцилла и Харибда, по нескольку десятков человек пожирал. Потом повернули на восток, в степные гари, где из-за недогарков конница ступить даже не могла, так что приходилось лошадям ноги кожами обматывать. Видали они там множество гадов-желтобрюхов и огромных змей-полозов длиною в десять локтей и толщиною с мужскую руку. По дороге вырезали они на одиноких дубах pro aeterna rei memoria[32 - вечной памяти ради (лат.).] княжеские гербы и наконец достигли такой глуши, где нельзя было приметить и следов человеческих.
– Я даже подумывал, – рассказывал ученый пан Маскевич, – что нам в конце концов, как Улиссу, и в Гадес сойти придется.
На что пан Володыёвский:
– Уже и люди из хоругви пана стражника Замойского, которая шла в авангарде, клялись, что видели те самые fines[33 - рубежи (лат.).], на каковых orbis terrarum[34 - круг земель (лат.).] кончается.
Наместник, в свою очередь, рассказывал товарищам про Крым, где пробыл почти полгода в ожидании ответа его милости хана, про тамошние города, с древних времен существующие, про татар, про их военную силу и, наконец, про страх, в каковой они впали, узнав о решающем походе на Крым, в котором все силы Речи Посполитой должны будут участвовать.
Так проводили они в разговорах вечера, ожидая князя; еще наместник представил близким друзьям пана Лонгина Подбипятку, который, как человек приятнейший, сразу пришелся всем по сердцу, а показавши во владении мечом сверхчеловеческую силу свою, завоевал всеобщее уважение. Кое-кому рассказал уже литвин и о предке Стовейке, и о трех срубленных головах, единственно насчет своего обета умолчав, ибо не хотел сделаться объектом шуток. Особенно подружились они с Володыёвским по причине, как видно, схожей сердечной чувствительности; уже спустя несколько дней ходили они вместе вздыхать на вал – один по поводу звездочки, мерцавшей слишком высоко, и потому недосягаемой, alias[35 - сиречь (лат.).] по княжне Анне, второй – по незнакомке, от которой отделяли его три обетованные головы.
Звал даже Володыёвский пана Лонгина в драгуны, но литвин бесповоротно решил записаться в панцирные, чтобы служить под Скшетуским, не без удовольствия узнав в Лубнах, что тот считается рыцарем без страха и упрека и одним из лучших княжеских офицеров. К тому же в хоругви, где пан Скшетуский был поручиком, открывалась ваканция после пана Закревского, прозванного «Miserere mei»[36 - «Помилуй мя» (лат.).], который вот уже две недели тяжко болел и был безнадежен, ибо от сырости все раны его пооткрывались. Так что к сердечной тоске наместника добавилась еще печаль по поводу предстоящей потери старого товарища и многоопытного друга, и по нескольку часов в день Скшетуский ни на шаг не отходил от больного, утешая беднягу и вселяя в него надежду, что не в одном еще походе повоюют они.
Но старик в утешениях не нуждался. Он весело умирал на жестком рыцарском ложе, обтянутом лошадиною шкурою, и с почти детской улыбкой глядел на распятие, висевшее на стене. Скшетускому же отвечал:
– Miserere mei, ваша милость поручик, а я пойду себе по свой небесный кошт. Тело мое уж очень от ран дырявое, и опасаюсь я, что святой Петр, каковой является маршалом Божьим и за благолепием в небесах приглядывать обязан, не пустит меня в столь дырявой оболочке в рай. Но я скажу: «Святый Петруня! Заклинаю тебя ухом Малховым не отвращаться, ведь это же поганые попортили мне одежку телесную… Miserere mei! А ежели будет какой поход святого Михаила на адское воинство, так старый Закревский еще пригодится!»
Вот почему поручик, хотя, будучи солдатом, много раз и сам смерть видел, и бывал причиною чужой смерти, не мог сдержать слез, слушая старика, кончина которого была подобна тихому солнечному закату.
И вот как-то поутру колокола всех лубенских костелов и церквей возвестили о смерти Закревского. Как раз в этот день приехал из Сенчи князь, а с ним господа Бодзинский, Ляссота, весь двор и множество шляхты в нескольких десятках карет, так как съезд у пана Суффчинского был немалый. Князь, желая отметить заслуги покойного и показать, сколь ценит он людей рыцарского склада, устроил пышные похороны. В траурном шествии участвовали все полки, стоявшие в Лубнах, на валу палили из ручных пищалей и мушкетов. Кавалерия шла по городу от замка до приходского костела в боевом строю, но с зачехленными знаменами; за нею, держа ружья дулами вниз, следовали пехотные полки. Князь в трауре ехал за гробом в золоченой карете, запряженной осьмериком белых как снег лошадей с выкрашенными в пунцовый цвет гривами и хвостами и с пучками черных страусовых перьев на макушках. Впереди кареты следовал отряд янычар – личная охрана князя, а позади на превосходных лошадях – пажи, одетые на испанский манер; за ними высокие придворные сановники, стремянные дворяне, камердинеры, наконец, гайдуки и выездные лакеи. Процессия остановилась сперва у дверей приходского костела, где ксендз Яскульский встретил гроб речью, начинавшейся: «Куда ты уходишь от нас, досточтимый Закревский?» Потом сказали прощальные слова некоторые из присутствующих, а среди них и Скшетуский, как начальник и друг покойного. Затем гроб внесли в костел и тут наконец произнес речь златоуст из златоустов, ксендз-иезуит Муховецкий, говоривший столь возвышенно и красиво, что сам князь прослезился, ибо был повелитель с весьма отзывчивым сердцем и отец солдатам. Дисциплины спрашивал он железной, но в щедрости, ласковом отношении к людям и благорасположении, которыми дарил не только солдат своих, но и жен их с детьми, с ним никто не мог равняться. К бунтарям грозный и безжалостный, был он истинным благодетелем не только шляхте, но и всем своим подданным. Когда о сорок шестом годе саранча поела урожай, он за целый год спустил чиншевикам уплату чинша, народу же распорядился выдавать зерно из закромов, а после хорольского пожара всех горожан два месяца содержал на свой счет. Арендаторы и подстаросты в экономиях трепетали, как бы до княжеских ушей не дошли жалобы о каких-либо злоупотреблениях или обидах, народу чинимых. Сиротам обеспечивалось такое попечение, что на Заднепровье называли их «княжьими дитынами». За этим присмотр осуществляла сама княгиня Гризельда, имея в помощниках отца Муховецкого. И царили по всем княжьим уделам достаток, лад, справедливость, спокойствие, но и страх тоже, ибо довольно было малейшего неповиновения, и князь не знал удержу в гневе и наказаниях; так в натуре его сочетались великодушие с суровостью. А в те времена и в тех краях подобная суровость только и давала возможность житью и усердию человеческому укореняться и пускать побеги, только благодаря ей возникали города и села, хлебопашец одерживал верх над грабителем, купец безмятежно вел свою торговлю, колокола мирно созывали верующих на молитву, враг не смел нарушить рубежа, разбойные шайки или гибли на колах, или преображались в регулярных солдат, а пустынный край процветал.
Дикой земле и диким обитателям ее именно такая рука и была нужна, ведь с Украйны на Заднепровье тянулся самый беспокойный народ: шли поселенцы, привлекаемые наделом и тучностью земли, беглые крестьяне со всех концов Речи Посполитой, преступники, сбежавшие из узилищ, словом, как сказал бы Ливий: «Pastorum convenarumque plebs transfuga ex suis populis»[37 - «Толпы пастухов и всякого сброда, перебежчиков из своих племен» (лат.).]. Держать их в узде, превратить в мирных поселенцев и привить вкус к оседлой жизни только и мог такой лев, от рыка которого всё трепетало.
Пан Лонгинус Подбипятка, впервые в жизни князя на похоронах увидав, собственным глазам не поверил. Будучи столько наслышан о его славе, он воображал князя неким исполином, статью обыкновенных людей превосходящим, а князь оказался роста скорее низкого и довольно худощав. Он был еще молод, будучи всего-навсего тридцати шести лет, однако на лице его уже лежал отпечаток ратных трудов. Насколько в Лубнах жил он по-королевски, настолько во время частых вылазок и походов делил невзгоды простого солдата: ел черный хлеб и спал, постлав на земле войлок; и если большая часть жизни его проходила именно в ратных трудах, то они и отразились на его облике. Во всяком случае, с первого взгляда было ясно, что это внешность человека исключительного. В ней чувствовались железная, несгибаемая воля и величие, перед которым всякий невольно вынужден был склонить голову. Ясно было, что человек этот знает и свою силу, и свое величие, и, возложи завтра на него корону, он не удивится и не согнется под ее тяжестью. Глаза у князя были большие, спокойные, можно даже сказать, приятные, но казалось, что дремлют в них громы, и всякий знал – горе тем, кто эти громы разбудит. Между прочим, никто не мог выдержать спокойный блеск этого взгляда, и, случалось, послы или бывалые придворные, явившись пред очи Иеремии, терялись и затруднялись слово сказать. И был он на своем Заднепровье подлинным королем. Из канцелярии его шли привилегии и жалованные грамоты: «Мы, Божьей милостию князь и господин», и т. д. Немногих тоже и воевод ясновельможных полагал он равными себе. Князья, происходившие от старинных могущественных родов, служили у него в маршалках. Взять хотя бы отца Елены, Василя Булыгу-Курцевича, родословная которого, как поминалось выше, велась от Кориата, а на самом деле от самого Рюрика.
Было в князе Иеремии что-то, что, несмотря на свойственную ему доброжелательность, заставляло людей оставаться на расстоянии. Расположенный всем сердцем к солдатам, он держал себя с ними совершенно по-свойски, с ним же фамильярничать никто не смел. И тем не менее рыцарство, прикажи он кинуться верхом с днепровских круч, сделало бы это, не раздумывая.
От матери-валашки унаследовал он белокожесть, схожую с белизной раскаленного железа, пышущего жаром, и черные, цвета воронова крыла, волосы, которые, по всей почти голове обритые, буйно устремлялись на чело и, остриженные над бровями, наполовину лоб закрывали. Одевался он в польский костюм, но об одежде не очень заботился и лишь по большим праздникам облачался в богатое платье, весь тогда сверкая золотом и драгоценностями. Пан Лонгин несколькими днями позже присутствовал на подобном торжестве. Князь принимал господина Розвана Урсу. Посольские аудиенции происходили всегда в так называемой голубой зале, так как на потолке ее свод небесный купно со звездами кистью гданьщанина Хелма был изображен. Князь, как обычно в таких случаях, восседал под балдахином из бархата и горностаев на высоком, напоминающем трон, стуле, подножье которого было оковано позолоченным металлом. Позади князя стояли ксендз Муховецкий, секретарь, маршалок князь Воронич, пан Богуслав Маскевич, а затем пажи и двенадцать одетых на испанский манер драбантов с алебардами; зала же была переполнена рыцарством в роскошных одеждах и уборах. Господин Розван от имени господаря просил князя влиянием своим и наводящим страх именем добиться от хана запрещения буджацким татарам учинять набеги на Валахию, которыми они каждый год ужасный урон и опустошения причиняли; на что князь ответил на превосходной латыни, что буджаки, мол, не очень-то и самому хану послушны, но все-таки, поскольку в апреле ожидается Чауш-мурза, ханский посол, то через него и будет передан хану соответствующий запрос касательно валашских обид. Пан Скшетуский предварительно уже сделал реляцию о своем посольстве и путешествии, а также обо всем, что слышал о Хмельницком и бегстве последнего на Сечь. Князь принял решение перевести несколько полков поближе к Кудаку, но особого значения делу этому не придал. А раз ничто, казалось, не угрожало покою и могуществу заднепровской державы, в Лубнах начались празднества и увеселения как в честь пребывания посла Розвана, так и по случаю того, что господа Бодзинский и Ляссота торжественно попросили от имени воеводского сына Пшиемского руку старшей княжны Анны, на каковую просьбу получили и от князя, и от княгини Гризельды ответ благоприятный.
Один лишь не вышедший ростом Володыёвский страдал среди всеобщего оживления, а когда Скшетуский попытался ободрить его, ответил:
– Тебе хорошо! Стоит тебе захотеть, и Ануся Борзобогатая тут как тут будет. Уж она очень благосклонно тебя все время вспоминала; я подумал было, чтобы ревность в Быховце excitare[38 - возбудить (лат.).], но теперь вижу, что его задумала она до петли довести и только к тебе одному, пожалуй, нежный в сердце сантимент питает.
– Да при чем тут Ануся! Можешь за ней снова ухаживать – non prohibeo[39 - не возбраняю (лат.).]. Но о княжне Анне и думать забудь, ибо это все равно, что жар-птицу в гнезде шапкой накрыть.
– Ох, знаю, знаю, что она жар-птица, и от горести поэтому умереть мне, как видно, суждено.
– Ничего, выживешь и тотчас влюбишься; только в княжну Барбару не вздумай, потому что у тебя из-под носа ее другой воеводич утащит.
– Ужели сердце – казачок, которому приказывать можно? Ужели очам запретишь созерцать столь дивное создание, княжну Барбару, вид которой даже зверя дикого взволновать способен?
– Вот те на! – воскликнул пан Скшетуский. – Вижу я, что ты и без моих советов утешишься, но повторяю: вернись к Анусе, ибо с моей стороны никаких помех не будет.
Ануся о Володыёвском, однако, не думала. Зато интриговало, дразнило и злило Анусю равнодушие пана Скшетуского, который, возвратившись после столь долгой отлучки, даже и не взглянул на нее. Поэтому по вечерам, когда князь с приближенными офицерами и дворянами приходил в гостиную княгини развлечься беседою, Ануся, выглядывая из-за спины своей госпожи (княгиня была высокая, а она махонькая), сверлила черными своими глазами наместника, пытаясь угадать причину. Однако взор Скшетуского, а также и мысли пребывали невесть где, а если взгляд его и обращался к девушке, то такой задумчивый и отсутствующий, словно бы поручик глядел не на ту, которой в свое время пел:
Ты жесточе, чем орда,
Corda полонишь всегда!..
«Что с ним?» – спрашивала себя избалованная вниманием любимица всего двора и, топнув маленькой ножкою, принимала решение в этом деле разобраться. Если говорить по совести, в Скшетуского она влюблена не была, однако, привыкнув к поклонению, не могла вынести равнодушия к своей особе и от злости готова была сама влюбиться в нахала.
И вот однажды, спеша с мотками пряжи к княгине, она столкнулась со Скшетуским, выходившим из расположенной рядом спальни князя. Ануся налетела, как вихрь, можно даже сказать – задела его грудью и, сделав поспешный шажок назад, воскликнула:
– Ах! Вы так меня испугали! Здравствуйте, сударь!
– Здравствуйте, панна Анна! Неужели же я такое monstrum[40 - чудовище (лат.).] и людей пугаю?
Девушка, теребя пальцами свободной руки косу и переступая с ножки на ножку, опустила глаза и, словно бы растерявшись, с улыбкой ответила:
– Ой нет! Это уж нет… вовсе нет… клянусь матушкиным здоровьем!
И она быстро глянула на поручика, но тотчас же опять опустила глаза.
– Может быть, сударь, ты гневаешься на меня?
– Я? А разве панну Анну мой гнев заботит?
– Заботит? Ну нет! Тоже мне забота! Уж не полагаешь ли ты, сударь, что я плакать стану? Пан Быховец куда любезнее…
– Когда так, мне остается только уступить поле боя пану Быховцу и исчезнуть с глаз долой.
– А я разве держу?
И Ануся загородила ему дорогу.
– Так ты, сударь, из Крыма вернулся? – спросила она.
– Из Крыма.
– А что ты, ваша милость, оттуда привез?