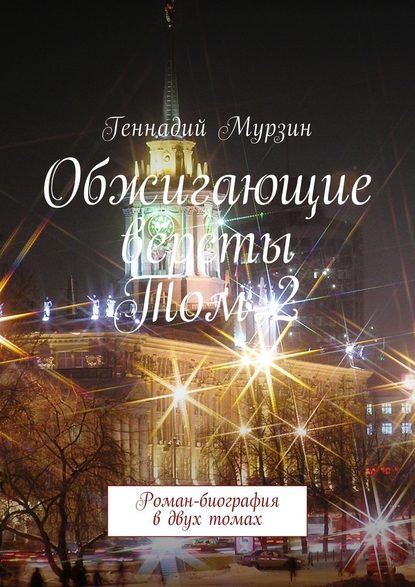По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обжигающие вёрсты. Том 2. Роман-биография в двух томах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И общественное мнение осудило. Меня – в первую очередь. Народ посчитал, что сказалось мое «дурное» влияние на Воробьева, по принципу: сам – не гам и другим – не дам. Мое положение усугубилось еще и тем, что все знали, что Воробьев – горячий поклонник Бахуса и видеть его трезвым, когда все пьяные, – нонсенс. Все посчитали, что подобная моя выходка на семинаре – вызов обществу. Впрочем, не хочу дальше углубляться. Замечу лишь, что впоследствии добьюсь реабилитации и на деле докажу: все человеческое и мне не чуждо.
Вскоре произошло другое событие, пострашнее первого. Ну, тут-то моя вина очевидна. Да, возмутился, но это была реакция на неадекватность восприятия события партийной властью.
В 1974-м вцепились в меня мертвой хваткой. Ухватились по мелочи, о которой неудобно даже говорить, хотя придется. Вон, до каких масштабов раздули скандал!
Ждали и дождались-таки своего
У меня – хобби: коллекционирую газеты. Не просто газеты, а их новогодние номера. Мне интересно. В коллекции уже более двух тысяч разных изданий, а всего в Советском Союзе выходит почти десять тысяч газет. Одна пятая часть. Мало. Медленно пополняется коллекция. Уж больно трудоемко: перед Новым годом закупаю открытки и печатаю на машинке поздравление и просьбу выслать новогодний номер. Пишу адрес и отправляю. Ну, сколько могу напечатать открыток? Максимум, две сотни. Сколько адресатов ответит и выполнит просьбу? Двадцать-тридцать и не более. И на ум приходит идея: купить тысячу почтовых карточек и текст на них отпечатать в типографии. И мне останется только написать адрес и отправить. Легко и масштабно.
Открытки купил, потратив тридцать рублей, пятую часть месячного оклада. Накладно, но, как истинный коллекционер, иду на расходы. Прошу мастера типографии Валерия Козлова, в свободное от работы время (не в службу, а в дружбу) отпечатать. Валерий соглашается. Карточки отпечатаны. Радостно рассылаю, не чувствуя пока ни вины, ни беды.
Но большое количество почтовых отправлений, рассылаемых частным лицом и изготовленных типографским способом, причем, без разрешения соответствующих органов, привлекает внимание. Текст безобидный. Пока. Но только позволь, считают компетентные товарищи, и подобные рассылки могут появиться другого содержания. Органы реагируют соответствующим образом, то есть обращаются с официальным письмом в Шалинский райком КПСС. В письме указывают на непозволительное использование типографского оборудования частным лицом и прилагают одну из почтовых карточек.
Поймали за руку злоумышленника. И заварилась каша. Сколько ждали и дождались-таки своего звездного часа. Сколько было в районной парторганизации людей, которых поганой метлой надо было гнать. Ничего. Они для райкома были более желанными. А вот я… Мое персональное дело выносят на обсуждение бюро райкома КПСС, где мне объявляют строгий выговор с занесением в учетную карточку. Принимают решение единогласно. Без пяти минут, кандидат на исключение.
В райкоме меня успокаивают: не волнуйся (овцы в овечьих шкурах), мол, насчет выговора; через полгода, мол, обмен партийных документов, взыскание снимут и все – новая учетная карточка чистенькая.
Экие, право, хитрованы. Да не на того напали. Хорошо знаю их конечную цель. Поэтому открыто заявляю: буду добиваться отмены решения бюро райкома, как несправедливого, предвзятого и необоснованного.
Меня спрашивают: хочу ли углубления конфликта? Отвечаю: нет. Тогда, говорят мне, не следует подавать апелляцию. Она, апелляция то есть, мне ничего не даст, так как шансы у меня нулевые. Нет, твердо говорю, пойду до конца. И пошел. Мою апелляцию рассматривает партийная комиссия обкома КПСС, на ее заседании присутствую, пытаюсь аргументировать, убедить. Все напрасно. Меня попросту не слушают. У них уже сформировано мнение, и поколебать не удается. Поработал-таки райком по своим каналам.
Партийная комиссия воспитывает меня, воспитывает очень сурово, переходит на угрозы; утверждает, что если не откажусь от намерения добиваться своего, не признаю своей ошибки, не покаюсь, то на следующем этапе, на заседании бюро обкома КПСС может быть даже хуже, чем есть сейчас, то есть взыскание может быть ужесточено. Это вполне реально (даже я понимаю) после однозначной позиции партийной комиссии, поддержавшей решение бюро райкома.
На меня ничто не действует. Закусил удила. Люди от меня хотят одного – моего отступления. Но для меня такое отступление – это не что иное, как фактическое признание справедливости наказания с далеко идущими потом последствиями.
Говорю: пусть рассматривает апелляцию бюро обкома КПСС, но его, напоминаю членам комиссии, решение не окончательное. У меня остается право обратиться в ЦК КПСС.
Ну, что ж, говорят мне, сам себе определил судьбу: обижаться будет не на кого, поскольку старшие товарищи, ветераны партии предупреждали; мой гонор и самомнение помешали прислушаться к голосу разума.
После заседания областной партийной комиссии представитель райкома, торжествуя, советует мне сесть сейчас в электричку и уехать домой. Нет, мол, ничего глупее, как оставаться на заседание бюро обкома. Понимаю. Знаю, что шансов на успех у меня почти нет. Кажется, райком все-таки добьется того, чего так страстно желает; он, райком покажет, кто он в советском обществе, а кто я. И все-таки отказываюсь от совета благожелателя. Остаюсь. На следующий день вновь и вновь пытаюсь убедить, но теперь уже членов бюро обкома КПСС, которым надлежит принять окончательное решение, в том, что по отношению ко мне проявлена вопиющая несправедливость.
Ах, как усердствовали руководители областных средств массовой информации, мои коллеги по цеху, присутствовавшие в качестве приглашенных, чтобы заклеймить меня позором! Ах, до чего гневен и неутомим был заведующий отделом агитации и пропаганды обкома Мазырин, назвавший меня чуть ли не антисоветчиком, пригрозивший разобраться с теми, кто допустил меня до нынешней работы. Ах, до чего всем этим собачонкам хотелось показаться перед членами бюро обкома с наилучшей стороны! Не укусят, так хоть всласть потявкают.
Но все они не обратили внимание на барометр, на стрелку, показывающую изменение атмосферы среди членов бюро. В азарте они забыли следить за настроением первого секретаря Рябова.
Яков Петрович Рябов несколько раз встречался в моих воспоминаниях. Тогда он был вторым секретарем обкома, а потом, когда отправят на пенсию Константина Кузьмича Николаева, Рябова изберут первым секретарем. Пройдет несколько лет, и он станет самым молодым секретарем ЦК КПСС (не было и пятидесяти) в команде Брежнева. Рябов, казалось, пойдет еще дальше, но через пару лет постигнет неудача[9 - Об этом вскользь упоминал в первом томе воспоминаний, поэтому подробности упускаю.].
Итак, дворняжки, столь занятые грызней очередной жертвы, брошенной им под ноги, утратили бдительность, но матерые и породистые псы, сидящие рядом с шефом (речь веду о членах бюро обкома), мгновенно уловили происходящие в нем изменения и притихли.
Рябов интуитивно понял: банальнейшая история, достойная разве что легкого укора, а не разбирательства на бюро обкома. Рябов не понял лишь одно: почему все присутствующие так жаждут крови? Яков Петрович, неожиданно стукнув ладонью по столу, остановил поток обвинений и сказал:
– Хватит! Предлагаю отменить решение бюро Шалинского райкома. – Отчаянно лаявшие только что собачонки притихли и сидели, разинув рты от удивления. В наступившей тишине Рябов продолжил. – Есть у членов бюро другие мнения? – Все промолчали. – Решение принято единогласно.
Вскочил было со своего места Шевелев, председатель партийной комиссии (еще за полгода до этого он был секретарем обкома КПСС, однако теперь за что-то понизили в должности).
– Но, Яков Петрович, наша комиссия…
Рябов не стал слушать.
– Для непонятливых повторяю: решение бюро обкома партии принято единогласно! Все!
Начальник секретариата, сидевший несколько в стороне, осмелился-таки спросить:
– Яков Петрович, мне для протокола нужен мотив такого решения, обоснование.
– Ты не слышал? Что автор апелляции пишет?
– Мало ли что он…
– Для тебя «мало ли», для меня – нет. Пиши, – тот суетливо схватился за ручку, – отменить решение бюро Шалинского райкома как несправедливое и необоснованное.
Ничего из затеи шалинских партийных начальников не вышло. А ведь они были у цели, чуть-чуть и… вот – пшик! Пузырь лопнул. Конечно, чудо, но оно случилось. Мало того, что Рябов не поддержал точку зрения райкома, но он проигнорировал и мнение областной партийной комиссии. Возвращаюсь в Шалю победителем. Представитель райкома (все тот же Александр Неугодников) – побежденным. Долго ли буду на коне? Не буду ли вышиблен, в конце концов, из седла и растоптан? Конь о четырех ногах, но и он спотыкается, а я – человек. Как можно жить, вечно оглядываясь по сторонам и опасаясь тех, кто следит и подстерегает? Прихожу к выводу: надо уезжать – от греха подальше. Куда? Кто поможет? Обком? После стольких скандалов?! Глупая надежда.
Во время очередного отпуска еду в Пермь. Заявляюсь в редакцию областной партийной газеты «Звезда». Редактор, выслушав меня, говорит, что непосредственно в основной штат взять не может (потому что кот в мешке), но есть на периферии собкоровская вакансия… Можно попробовать. Для этого, говорит, должен съездить в командировку и привезти корреспонденцию: если результат окажется положительным, то тогда…
На все согласен. Еду в командировку. Собрал материал, вернулся в Пермь и написал корреспонденцию. Ответственный секретарь повертел в руках и отложил в сторону. Чувствую, что за время командировки атмосфера изменилась. И дело совсем не в том, что корреспонденция не того, как они ожидали, качества. Предполагаю, что ребята опять-таки созвонились с Шалинским райкомом партии и получили обо мне исчерпывающую информацию. Имея такие сведения, кто станет рисковать? Все понял. Не стал выяснять причину холодка. Сел в поезд и вернулся домой. У меня было еще двадцать дней отпуска. Снова еду, но теперь в город на Волге – в Горький. Куда идти? А некуда, как только в сектор печати обкома КПСС, где владеют информацией о вакансиях. Там встречает заведующий сектором. Оказывается, земляк, родом из Свердловска. Выглядит барином, разговаривает, развалясь в кресле и попыхивая дорогой сигаретой. Предложил райцентр, на юге области, в стороне от железных дорог. Съездил. Поговорил с редактором. Он мне не понравился. Райцентр – тем более, еще хуже Шали. Шило на мыло менять, что ли? Да, у меня проблемы, но не до такой степени горячо под ногами, чтобы бросаться, очертя голову. Узнал, между прочим, что свободна должность заместителя редактора в городской газете, что в двадцати километрах от Горького. Однако мне не предложил. Обиделся. Уехал, не попрощавшись.
Интересная деталь. Пройдет несколько лет и случится так, что в мой кабинет постучится и войдет тот самый барин из Горького. Он будет проситься на работу, хотя бы в качестве корреспондента. Сразу его узнал, хотя прежнего высокомерия у того как не бывало. Он тоже узнал? Вряд ли. Вакансия была, однако, признаюсь, сказалась давняя обида, и отказал.
Отпуск закончился, а так и ничего не нашел. Сижу как-то в кабинете (свои поползновения держу в тайне, даже от близких людей) и в голове возникает мысль: а не позвонить ли редактору первоуральской городской газеты «Под знаменем Ленина»? Ведь под боком. Газета уважаемая в области: выходит пять раз в неделю и тираж один из самых высоких в области. Понимаю, что меня никто заместителем редактора не возьмет. Но дело разве в должности? Позвонил. Злой рок какой-то: трубку на том конце провода снял не кто-нибудь, а… инструктор обкома КПСС Виктор Дворянов (по голосу узнал). Я – в растерянности. Что делать? Здороваюсь. Представляюсь. Дворянов, чувствую, удивлен подобному совпадению не меньше моего.
– Ты с редактором хотел переговорить, да? – Подтвердил и сказал, что могу перезвонить позднее. – Зачем? Он сейчас возьмет трубку.
Спросил редактора насчет вакансий. Сергей Леканов сказал, что кое-что есть. И добавил:
– Но если ты рассчитываешь на должность заместителя редактора, то ничего не получится.
– Что вы! – Воскликнул в ответ. – Согласен на любую творческую работу.
Договорились, что приеду, и обговорим детали. Съездил. Поняли друг друга. По крайней мере, мне так казалось. Вернувшись в Шалю, пишу заявление об увольнении. Прошу без отработки. Кустов подписывает заявление и пишет приказ. На другой день – свободен. Уезжаю в крупный промышленный центр Среднего Урала, где много строится, жизнь бьет ключом.
Шаля, где проработал ровно четыре года, остается в прошлом. А что впереди?..
Глава 43. До чего ж изменчива фортуна
Умение жить – это целая наука
Не умею жить – это очевидно. Не умел всегда. В ранней юности можно было сделать скидку на отсутствие жизненного опыта, на столь естественный юношеский максимализм (высказывается идея, что он присущ всем людям незрелого возраста, но это неправда: видел в своих сверстниках, еще в школе, поразительно много умения жить – как ловко ластились к учительнице и все лишь ради того, чтобы заручиться расположением и обрести надежду на снисходительность). Уже тогда одним хотелось хорошей, беспорожистой жизни, других дьявол тянул за уши к некой правде, за которой виднелись неизбежные конфликты.
Умом всегда понимал, что в каких-то случаях лучше всего промолчать, отступиться, но нет! Рассудок подсказывал, что надо, наоборот, расшаркаться, улыбнуться, сказать невинный комплимент, и все наладится, человек перестанет глядеть зверем. Угрюмо отворачиваюсь и молчу. Столь явная демонстрация не остается незамеченной. Жди последствий. Что это? Гордыня – один из смертных грехов. Прямолинейность (может, твердолобость?), будто бы, характерна для ограниченных людей. Если это так, то… Грустное признание.
«Уменьем жить – писал в „Обрыве“ И. А. Гончаров, – называют уменье – ладить со всеми, чтоб было хорошо и другим, и самому себе, уметь таить дурное и выставлять, что годится…»
Этим словам более полутора веков. Они заинтересовали меня тем, что, оказывается, термин «уменье жить» имел хождение в народе уже тогда. Может, умение жить (либо обратное) передается по наследству и становится частью общей и неизбежной судьбы человека?
Не могу сказать, что не хотел «уметь жить» – это было бы большой неправдой. Хотел и даже очень хотел! Часто убеждал себя, что обязан жить по правилам, установленным обществом, что должен смирить гордыню, укоротить язычок и стать, как все те, что окружают меня. Почему, спрашивал сам себя, они «умеют жить» и у них всё получается, а я нет, и моя жизнь тащится раскорякой? Чем хуже? После самовнушения начинал демонстрировать «умение жить»: не лез в бутылку, обходил стороной те места, где могли возникнуть конфликтные ситуации, на редакционных летучках или на собраниях коллектива больше молчал и слушал, не вылезая со своим «особым мнением», часто кивал, намекая на согласие, хотя до него было далеко, находил нужные слова, чтобы порадовать начальство или ненавистного коллегу, откликался на просьбы, если даже они были противны мне, пропускал мимо ушей обращенные в мой адрес колкости или отшучивался. И видел, как все начинает налаживаться, окружающие меня люди начинают относиться по-другому. Оказывается, так это приятно! Мне уже казалось, что и я овладел в совершенстве «умением жить». Но проходило в этой «благодати» от силы полгода и всё возвращалось на круги своя. Вновь срывался. Причем, спотыкался на ровном месте, там, где не ожидал опасности. Не иначе, как злой рок. И неизбежен вопрос: может, не стоит ломать себя? Ведь от предначертанного судьбой не убежишь.
Чем, как не злодейством судьбы, можно еще объяснить вот эту историю? Почему именно меня втянула она в свой водоворот? Больше некого, что ли? Вон, сколько людей вокруг!