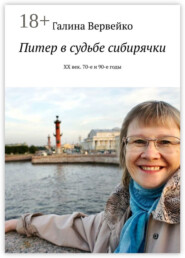По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Матильда Кшесинская – прима Императорского балета 1 том XIX век. Документальная повесть-роман о русском балете рубежа XIX—XX веков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О, он был долгожителем! И прожил целых сто шесть лет! Умер в таком возрасте и то случайно: от угара.
А знаете, какой некролог написали о нём польские газеты? В некрологе сообщалось, что Иван-Феликс (таково было полное имя отца) Кржезинский-Нечуй обладал поразительным голосом, необычайной мягкости и замечательного тембра и был великим артистом польского театра на трагических и комических ролях. Вот какой талантливый был у вас дед!
Самой маленькой в семье была Маля. Она сидела рядом с отцом и, молча, слушала все его рассказы. Но однажды и она задала вопрос:
– Папа, а расскажи, как ты стал артистом.
– С удовольствием! – ответил отец. – Когда мне исполнилось восемь лет, родители отдали меня обучаться хореографии – танцам. Моим учителем был балетмейстер Морис Пион. Он был создателем и директором Варшавского балета. Сначала мне очень нравилось танцевать классические танцы. Но мой темперамент до конца не мог выплеснуться в них. И тогда я стал изучать характерные танцы и пантомиму. Мне не исполнилось ещё и 15 лет, когда меня назначили танцовщиком кордебалета Варшавских театров.
В 14 лет, а было это в 1835 году, в городеКалише, я впервые выступал в присутствии российского Императора Николая Павловича. Около Калиша в то время были устроены грандиозные военные смотры в честь Прусского Короля Фридриха-Вильгельма III. В честь этих торжеств был построен новый театр, а из Варшавы привезли в него лучших артистов, в числе которых был и я – ваш отец.
Свидание двух монархов в Калише было крупным политическим событием, и Император Николай I хотел придать особый блеск этим торжествам. Кроме военных смотров и манёвров, которые проходили вокруг города, в самом городе давались балы, театральные спектакли и пышные приёмы. Эти калишские празднества удачно отразились на моей артистической карьере. Уже тогда император заметил меня среди польских артистов.
В 1845 году я был произведён в артисты балета и исполнял эти обязанности в Варшавских театрах почти до конца ноября 1852 года. Да, четырнадцать с половиной лет, в общей сложности, я радовал поляков-варшавян своими танцами на сцене. И до сих пор, когда я приезжаю в Варшаву из Санкт-Петербурга, то мне там устраивают грандиозный приём! Мои польские зрители гордятся, что я стал артистом Императорских театров!
Как это произошло? Император Николай Первый приезжал в Варшаву ещё несколько раз. Ему очень нравились польские национальные танцы. Особенно он любил смотреть мазурку. В Петербурге польские танцы были тогда малоизвестны. Хотя ещё во времена Пушкина там танцевали мазурку. Помните его стих: «Мазурка началась. Бывало…» И он дальше рассказывал, как её танцевали в старину. Но потом мода на неё прошла, и танец подзабылся.
А в 1857 году Император Николай Павлович решил вновь возродить мазурку в Петербурге. Он выписал из Варшавы по пять танцовщиков и танцовщиц для исполнения мазурки. В их числе был и ваш отец, то есть, я – Феликс Янович. Мазурка в столице России имела огромный успех! И с этого времени она становится любимым танцем и на балетной сцене, и на придворных и дворянских балах. Но, надо сказать, что с первыми артистами мне в Россию выехать не пришлось…
– Почему? – с нетерпением спросил Юзя.
– По глупости. Был молодой и горячий. И во время представления в Варшаве балета «Катарина, дочь разбойника» так вошёл в роль разбойника, что нечаянно пыжом прострелил себе руку! И рана оказалась очень серьёзной. Мне даже чуть не ампутировали кисть руки! Но, слава Богу, всё обошлось – рану вылечили. А вот на первое представление мазурки наших польских артистов в Петербурге я из-за неё не попал… Я приехал в Петербург позже других – в начале 1853 года.
Отец Феликс хранил старую петербургскую газету «Северная пчела» за 17 декабря 1852 года. Ему её подарили в тот день, когда он впервые танцевал в Петербурге, уже как артист Императорских театров. Он показывал своим детям статью, которая предваряла его дебют в столице России. Вот что о нём писалось в ней: «… нигде не танцуют так ловко и грациозно мазурки, как в Польских провинциях, и наша бальная молодёжь вероятно не пренебрежёт пребыванием здесь г. Кржесиньского, чтобы воспользоваться его уроками, как пользовались уроками г. Попеля. Г. Кржесиньский танцует ловко и грациозно все бальные танцы, но в мазурке он неподражаем».
Более других волновался о приезде Кржезинского в столицу генерал-майор Свиты Его Императорского Величества А. Н. Астафьев (видимо, ему царь поручил заняться этим делом). Он написал рекомендацию в дирекцию Императорских театров, и на его прошение директор А. М. Гедеонов ответил: «Хотя по составу балетной труппы при С.-Петербургских театрах и не представляется надобности в принятии кого-либо на сцену, но, желая сделать угодное Вашему Превосходительству, я готов допустить г. Кржесинского к дебюту в удобное время на Александринском театре, чтобы видеть на деле, может ли он быть полезен Дирекции». Но, видимо, узнав от просителя, кто был на самом деле «заказчиком» этого дела, уже 15 января (ещё до дебюта польского артиста на петербургской сцене!) с Феликсом Кржесинским (или Кржезинским) был заключен контракт сразу на три года, а затем Дирекция перезаключала его в дальнейшем до 1882 года на год, два или три, после чего он стал солистом Императорских театров на постоянной основе.
Не успев как следует обосноваться в Петербурге, как 30 января 1853 года Феликс Янович выступил на сцене Императорского Александринского театра в спектакле «Крестьянская свадьба».
– И какие танцы ты в нём исполнял? – спросила Юля.
– Польские: краковяк и мазурку. И ещё классическое па-де-труа с балеринами Большого театра Петербурга – Снетковой первой и Паркачёвой. И с этого времени я уже окончательно поселился в столице России и вот живу до сих пор… Надеюсь, что и вы, мои дети, будете любить этот город, как мы с вашей матерью. Ведь она тоже полячка. И тоже танцовщица.
Да, ещё хочу рассказать вам один случай о Николае Первом, его любви к мазурке. Было это в 1851 году. Николай Павлович вообще очень интересовался балетом. В тот год в честь тезоименитства (дня Ангела) его дочери – Великой Княгини Ольги Николаевны, в Петергофе был дан парадный спектакль на открытом воздухе. Перед этим, как обычно, была проведена генеральная репетиция, на которой присутствовал сам Император. Государь прошёл на сцену и попросил руководителей балета, чтобы обязательно в спектакле станцевали мазурку. Этим он поставил их в затруднительное положение: артисты не взяли с собой из театра в Петербурге польских костюмов. Тогда царь приказал танцевать свой любимый танец в костюмах неаполитанских рыбаков (неважно, что это были итальянцы!). К счастью, капельмейстер Лядов как-то случайно захватил с собою ноты мазурки. И танец был исполнен к великому удовольствию Государя.
Матильда Феликсовна не раз, живя в Париже, вспоминала вечера в России во времена своего детства, рассказы отца. Их она старалась пересказать и своему сыну Вове, чтобы он гордился не только своим происхождением из Царской русской семьи отца, но и славными предками матери из Польши. С этих рассказов она решила и начать свои воспоминания. Прежде всего она составила краткую родословную, открыв Гербовник Польского Дворянства «Родина» и написав:
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Настоящая родословная составлена на основании Гербовника Польского Дворянства «Родина», том 8-й, с.119, Варшава, 1911 год.
Род Кшесинских
Мой прадед – Войцех, род. в 1736 г.; в 1748 г. бежал во Францию. В 1768 г. женился в Париже на польской эмигрантке Анне Зиомковской.
Мой дед – Иван-Феликс (сын предыдущего), род. в 1770 г., скончался 106-ти лет, т.е. в 1876 г. Знаменитый скрипач, певец и драматический артист. В 1798 г. женился на Фелицате Петронелли-Деренговской. Она скончалась в 1870 г. в Петербурге у нас на квартире и была похоронена на католическом кладбище на Выборгской стороне.
Мой отец – Адам-Феликс, род. 9 ноября 1823 г., так значилось в бумагах, а отец утверждал, что он родился в 1821 г. В начале 60-х годов он женился на Юлии Доминской, вдове Леде, балетного артиста. От первого брака у моей матери было пять человек детей, не считая четверых умерших в младенчестве. От второго брака нас было четверо.
Мой брат – Станислав, род. в 1864 г., скончался, кажется, в 1868 г.
Моя сестра – Юлия, род. 22 апр. 1865 г., 11/ 24 дек. 1902 г. вышла замуж за барона Александра Логгиновича Зедделера, офицера Л.-ГВ. Преображенского полка. Он род. 23 мая 1868 г., скончался 18 ноября 1924 г. в Кап д` Ай.
Мой брат – Иосиф-Михаил (Юзя), род. в 1868 г. В 1896 г. женился на Серафиме Александровне Астафьевой, и в 1898 г. у него родился сын Вячеслав (или Славушка).
Я сама – Матильда-Мария, род. 19 авг./1 сент. 1872 года. 17/30 янв. 1921 г. я вышла замуж за Великого Князя Андрея Владимировича».
Написав всё это, Матильда задумалась. И мысли её вновь унеслись в далёкое время её детства.
Малечке Кшесинской 3 года. 1875 г.
Глава 5. Детство Малечки
Однажды Маля попросила отца рассказать ей про маму. И Феликс Янович поведал самой младшей своей дочери такую историю.
– Твоя мама, Юлия Станиславовна Доминская, окончила Императорское Театральное училище и была танцовщицей, то есть, числилась в театре артисткой балетной труппы, исполняя кордебалетные танцы. Отслужив на сцене положенные двадцать лет, она вышла на пенсию в 1868 году.
Первый раз она вышла замуж за танцовщика-француза Теодора Леде ещё за двадцать лет до твоего рождения – в 1852 году. И в том же году у них родилась дочь Мария, твоя сводная сестра. Она тоже была танцовщицей: окончила Театральную школу и пять лет танцевала в театре. Потом случилась беда: девушка умерла в 24 года. У супругов Леде была многодетная семья – всего родилось девять детей. Правда, некоторые из них умерли во младенчестве, и у мамы осталось пять детей, когда умер муж, и она стала вдовой.
Она была красивой и доброй, я полюбил Юлию, и решил жениться. Мне было жаль её: ведь не могла же женщина одна содержать такую семью! А я был в то время солидным мужчиной в расцвете лет – мне уже было за сорок. Некоторые удивлялись: как я мог взять на себя такую обузу: воспитывать и содержать пятерых неродных детей!? Но я очень любил вообще детей, и, полюбив вашу матушку, стал относиться к её детям, как к своим собственным. Я не боялся такого груза, а только думал о том, что нужно как можно больше танцевать и преподавать, чтобы заработать больше денег на содержание семьи. Официально мы оформили свои отношения в мае 1872 года, в тот год, когда родилась ты. Для нас с Юлей не так важно было это, мы верили друг другу и в гражданском браке, когда в нашей семье родилось трое детей.
А всего у твоей матери было тринадцать детей. Четверых она родила уже при нашей совместной жизни. Но маленький Станислав (я его назвал в честь своего любимого брата, а твоего дяди, да и у мамы так звали отца), умер маленьким мальчиком – ему было четыре года. И для нас с мамой это было большим горем.
Юлечка родилась на год позже своего старшего братика, ей тогда было три годика. В тот же год родился и твой брат Юзя. Малыши были для нас утешением. Последней дочуркой у нас с мамой была ты, родившись через четыре года после Юзи. Тебя я тоже назвал Матильдой в честь любимой сестры, твоей родной тёти, которая осталась жить в Польше, и я по ней очень скучал. Кстати сказать, и она тоже была танцовщицей. Потом она переезжала к нам в Петербург. Позже она стала жить в маленьком городке Лодейное поле Олонецкого уезда, куда мы с тобой обязательно отправимся в путешествие на пароходе.
Родилась ты в конце лета – 19 августа 1872 года. Тогда мы нанимали с мамой дачу в местечке Лигово. Оно находилось по тринадцатой версте по Петергофскому шоссе. Мы старались проводить лето с вами, детьми, вдали от пыльного города, чтобы для вас был простор и чистый воздух.
Между прочим, в Лигово, недалеко от того дома, где ты родилась, находится Красный кабачок, где почти ровно за 110 лет до твоего рождения, в июне 1762 года, переночевала будущая Императрица Екатерина Вторая, когда шла во главе гвардейских полков походом. Вскоре она была провозглашена Императрицей.
«Мой отец не был богат, но сценой и уроками зарабатывал достаточно, чтобы в доме был полный достаток, и мы могли жить с комфортом», – написала Матильда Феликсовна под заголовком «Домашняя жизнь». А дальше она начала вспоминать, каким он был хлебосолом. Феликс Янович (а в России его чаще называли Феликс Иванович), для которого самым большим удовольствием было принимать гостей и угощать их, был великим мастером в этом. Он был превосходным кулинаром. А по характеру очень весёлым и общительным. Матильда считала, что это его хлебосольство передалось ей от отца. Она, став взрослой, тоже любила делать застолья у себя дома или приглашать людей в рестораны за свой счёт и располагать всех к общему веселью.
Особенно Кшесинской вспоминались два великих праздника – Пасха и Рождество в их родительском доме. В эти праздничные дни на семейном столе, сообразно старой католической традиции, которая строго соблюдалась в доме, появлялись самые многочисленные и разнообразные блюда.
К ПасхеФеликс Иванович сам готовил куличи. Детям было радостно видеть отца в белом переднике. Перед этим он обязательно покупал новое деревянное корыто и в нём месил тесто. Куличей пеклось двенадцать – по числу апостолов. Всё это расставлялось на столе, а в центре ставили сделанного из масла агнца с хоругвью. Никто не смел раньше времени прикасаться к еде. Сначала, в Страстную Субботу, приглашали ксендза, и он благословлял семейный пасхальный стол. Только после этого вся семья чинно рассаживалась за столом и приступала к праздничной трапезе.
Родители Матильды Кшесинской принадлежали к польской римско-католическойцеркви. И Сочельник перед Рождеством справлялся, также как и Пасха, согласно старинным обычаям. До первой звезды – шести часов вечера, ничего нельзя было взять в рот. А затем был торжественный ужин в тесном семейном кругу. Из посторонних в этот день почти никого не звали, могли пригласить только самых близких старых друзей семьи. Воспитатель Юзи Раш жил в их семье, и потому тоже бывал за рождественским столом.
Ужин в этот день был главным событием дня. И на нём все кулинарные способности отца семейства проявлялись с особым блеском. По традиции в рождественский Сочельник полагалось подавать тринадцать постных рыбных блюд. Каждое из них имело своё символическое значение. Позднее число рыбных блюд было сокращено до семи. Но обязательно на столе должен быть судак по-польски и жареная рыба. Чуть позже подавали два сорта рыбной ухи в двух отдельных мисках, из которых мама разливала всему семейству. В одной миске подавалась русская уха, а во второй – польская, со сметаной. Эту польскую уху все ели с наслаждением, и Матильда до сих пор вспоминала её. Но нигде более, кроме своего родительского дома, ей не приходилось её встречать, даже когда она бывала в самой Польше. И она подозревала, что отец это блюдо придумал сам, и в нём был его кулинарный секрет.
К Сочельнику поляки ещё пекли специальный сладкий пирог, в который вкладывался цельный миндальный орех. Того, кто его находил, объявляли «миндальным королём». Это ему сулило удачу. Дети ходили по домам и пели колядки в честь Трёх королей, которые славили рождения Христа. Хозяева их за это угощали «щедриками» – вкусными рогаликами, которые специально пекли к этому празднику.
А после ужина было самое радостное событие Рождества: зажигали ёлку. А под ней были разложены для гостей и членов семьи подарки.
Матильда, вспоминая это, улыбалась. Она, видимо, до сих пор в душе осталась тем ребёнком, каким была в своём детстве. Этот обычай зажигать ёлку и раздавать подарки она любила и сейчас – в старости. Для неё до сих пор не было большего удовольствия, чем исполнять эту традицию в Рождественскую ночь.
А как Маля любила лето в детстве! Вся их многочисленная семья уезжала на всё лето в имениеКрасницы. Сначала было маленькое путешествие. Ехали на поезде до станцииСиверской: она находилась в шестидесяти трёх верстах от Петербурга по Варшавской железной дороге.
Отец однажды купил это имение у генерала Гаусмана. В том месте протекала река Орлинка. И на возвышенном её берегу был расположен большой двухэтажный деревянный дом. Из его окон был прекрасный вид на поля и долины далеко вокруг. Единственным недостатком этого дома была маленькая столовая, в которую вся семья Кшесинских просто не вмещалась, не говоря уже о гостях. Тогда отец решил перестроить дом. Он снёс старую столовую, а на её месте построил новую – просторную и светлую. В центре её был поставлен огромный стол, за которым все могли свободно разместиться.