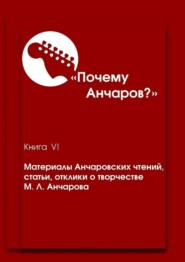По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Начистоту. Книга писем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Начистоту. Книга писем
Галина Щекина
Александр Дудкин
Современность не располагает к медленному чтению и письму, а ведь некогда люди целые дни и недели тратили на бумажные письма, особенно, если дружили на расстоянии. Сейчас письма стали электронными, обрывистыми, из них часто уходит тепло. Эта книга – напоминание о том времени, когда письма помогали жить. Книга содержит нецензурную брань.
Начистоту
Книга писем
Галина Щекина
Александр Дудкин
Фотограф – фото на обложке (портрет Г. Щекиной) Александр Анатольевич Дудкин
Корректор Зоя Сергеевна Елизарьева
© Галина Щекина, 2020
© Александр Дудкин, 2020
ISBN 978-5-4498-9254-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Дневники
Галина Щекина. Писательский дневник июнь 2001-го. на Скансайте
Шеваров, который описывает юного доктора Дюкова, который вместо каникул работает в деревенской больничке и любит Соловьёва. «Белые крахмальные халаты здесь видели не чаще белых ворон». «Я везде возил эту пленку с собой и, когда скверно было на душе, в сотый раз слушал про дорогу дальнюю, и ночку лунную, белую акацию и маленький плот, который уплывал в мир счастья и покоя. А счастье и покой были с нами в ту июньскую ночь, когда я, корреспондент вологодской „молодежки“, вместо интервью со своими героями записывал зачем-то и эти песни, и эту ночь, и случайные разговоры за столом. Мне было хорошо с этими людьми и было жаль, что надо писать статью о деле, о проблемах, и мне никогда не удастся объяснить, почему так хорошо здесь, в двадцати километрах от северного городка Никольска… С уходом Эдика Дюкова дверь в ту июльскую ночь для меня закрылась… Эдик: „Здесь по-особому себя чувствуешь, есть некая миссия, которую ты выполняешь. И не потому, что мы здесь великие диагностики, взяли и пошли в народ, не надо об этом… Можем приехать, можем уехать, но общение с человеком, когда он видит заинтересованность в его жизни, никогда не пропадает напрасно. Здесь людям этого не хватает. Они много работают, но при этом каждый понимает – он винтик, как и раньше. А наше отношение он чувствует. Бескультурье, говорят. Нет, я не согласен. Вся наша культура – отсюда, с Севера пошла. К этому нельзя так: „Ах, глушь, темень…“ У нас, врачей, острая реакция, мы видим то, что, может быть, другие не видят. Здесь очень хорошие люди в душе своей… Соловьёв очень важен для меня. Я нахожу в нем опору своих мыслей. Его отношение к людям – высшее христианское отношение, нам это не дано, и не в смысле религиозности. У него работа есть интересная о Пушкине, закономерна ли гибель Пушкина… Он раненый привстал и стрелял, представь, он убил бы Дантеса! Как бы мы его воспринимали? В дуэли он отдался низким чувствам, мести. Он не должен был делать, как все…“ После Америки Эдик был одержим идеей больницы единомышленников и надеялся, что церковь ему поможет. Он мечтал о такой детской больнице, где высший уровень чисто медицинского лечения соединился бы с традициями русского милосердия, духовного врачевания. Незадолго до смерти Эдик оживил ребенка, у которого не было пульса. Родители принесли розы, которые быстро засохли, санитарка их выбрасывала, а он доставал из ведра и снова ставил их на стол».
Я не сравниваю. Я просто начинаю дышать и жить, поскольку есть ради чего. Мысль описывает круги и внезапно попадает в болевую точку. И я думаю уже о своем читателе, может ли он дышать после моих рассказов. Одна женщина после моей повести «Графоманка» попала в психдиспансер, я поехала туда, и она мне всё рассказала. Ее муж бил за стихи, а тут и я добавила. Ей не попался Шеваров! Но о том, сколько добра и зла в моей прозе, я не думать не могу. Это сначала пишешь на потоке эмоций, торопишься изречь, ну а после? Остынешь – приходится смотреть правде в глаза.
Г. Щекина. Писательский дневник
Когда написала «Графоманку», у меня было радостное мстительное чувство. (Вроде того, как я на всех конференциях поливала местный Департамент культуры, начиная с областного радио, кончая корреспонденткой радио «Свобода» Машей Ряховской. И эти поливания как-то доходили до главы департамента, и люди качали головой: зачем она нас позорит? А затем, что вы меня погубили! И не только меня…) То есть я понимала, что этой «Графоманкой» я пишу черную летопись. Но хоть здесь могла говорить правду. Первые муки и сомнения начались с Ольги Фокиной, знаменитой поэтессы. «Ты что, думаешь, у меня не было горя? – спросила она. – Было. Но я же не сую его людям в лицо».
А я сую! Я не глотаю свое горе, не давлюсь им, нате, другие, давитесь. Я ахнула. Люди захотят во мне черпнуть, а я им – р-раз! – наотмашь. Пришли в эту книжку, как к помощнику, а здесь – наоборот. Вот эта женщина в районе, Дина, видеть надо было, как она стихи читала, волосы тяжелые крутила на затылке и говорила свои стихи – целый час, может, больше. И никаких тетрадок, всё в голове, а тетрадки муж пожег, порвал, а ее напинал. И она не возмущалась. А разбитыми губами всё: «Люблю, люблю…» И она стала читать «Графоманку» и возмутилась всей собой – не за себя. Такие только чужое больно понимают, такие они, русские женщины. Она стала спину разгибать, наперекор семье идти, мужу военному, свекрови, и стихи записывала, и не скрывала, что про любовь. А в деревне так нельзя. У нее внутри одно, в жизни другое. Так что же? Как говорит Сопин, «сколько дерьмо (реактор) не заливай бетоном, всё равно рванет». Вот и рвануло. У Дины началась хворь. Ее начнут оскорблять всяко, по хозяйству утыкать, а она уже понимает, что они – ничтожества. И говорить им без толку. Она начинала задыхаться – это была такая ж а б а. Потом ее без памяти увезли на отделение. Я поехала к ней, она рассказала мне всё. Потом я долго отойти не могла. Думала, с ума сойду. Разве я помогла ей? Наоборот, сделала хуже. Она решила, что сможет пробиться, и не смогла. Так и бросила потом писать. Просвещенные эзотерикой люди говорили, что книжка «Графоманка» просто напитана негативом. Мои родные! Почитайте «Черное зеркало» Мамлеева и Павлова! Я против них цыплок неоперенный. Проблемы с прообразами. Не такие, как у милой Нины Горлановой. Наоборот, я успела написать героя по имени Упхолов («Ну и мерзкое имя, – говорили мне, – просто в горле першит!») со своего приятеля и дала ему прочесть черновик. Он стал смеяться, ему даже понравилось. А там такая как бы карикатура! Я говорю: «Ну что твои стихи валяются, дай я вставлю их. (Чем выдумывать поэта – вот же пропадает настоящий поэт). Всё равно ты не будешь их печатать!» Ладно. Вставила. А он умер потом, приятель. И все опять головами качают: как ты могла?! Без ссылки! Так разве я думала? А на родину поэта мне теперь приходится ездить, потому что надо же кому-то в библиотеке районной выступать. А он там в «Графоманке» таким алкашом представлен, что боже мой. Пришлось настоящую книгу делать с его наследием. И про другого писателя написала правду, но все говорят: если он это прочтет, его удар хватит. Лучше жди, когда сам умрет. А он же дорог мне, так что ж, я смерти ему пожелаю? Нет, лучше не писать, не печатать ничего. Так и не выпустила книжку, про приятеля из «Графоманки» помня. Кому нужна правда? Да бог с ней…
И так меня грызла совесть, что в следующем сборнике я выпустила рассказы совсем в другом тоне – «Ария», благодарность и примирение. Теперь думаю, совсем рехнулась, так прогибаться перед жизнью. В конце концов, я не просто летописец. Вот Руслан Киреев говорит, это, мол, физиологический очерк. Но это фон. Основное – это я. Я хочу о себе рассказать, но приходится, как той Дине, прикрываться образом. Не то напинают, а тетрадки пожгут. И я пишу повесть про художника-самодельщика, который не учился, а просто так, на порыве писал. И что из этого вышло. Почему художник? Люблю художников. Психология творчества – такая могучая вещь, ей невозможно не подчиниться. Я и подчиняюсь. Смотрю теперь на эту «Графоманку» и удивляюсь: отчего они про негатив? Она же лучше меня, героиня, то есть это моя мечта – такой быть, только ее заставили не писать, а я не поддалась. Теперь я заканчиваю повесть про художника под названием «Благодарю», и меня ошарашивает: история повторяется! Опять! После «Графоманки» была умильная «Ария», а после пьяночной и наглой «Ностальжи» – опять, значит, тихое «Благодарю». Что же это такое? Вроде бы никто меня не заставлял каяться… А вот так вот! Знай свое место, писака. Может быть, у кого-то тоже такие казусы. А может, еще похлеще. Наверно, мудрость в том, что само небо заставляет меня соблюдать равновесие. Не Фокина, допустим, а нечто выше. Хотя Фокина это почувствовала раньше… А если совсем без масок? Что получится? Была не была…
18/07/2001 Вологда
10 августа 2001 года.
Страна и я в одной канаве
ся моя семья весной смотрела передачу про закрытие НТВ. А перед этим вся семья смотрела митинг в знак солидарности с НТВ. У меня было двойственное чувство: вроде бы всё правильно, наши победят, должны бы победить… Но не победят. Уже не победили. Они в панике, они слишком близко подошли к этой пропасти. В которую я падала тоже и упала еще раз. Только в мою честь никто митингов не собирает. Потому что масштабы трагедии не те. А ситуация та же самая. Несмотря на то, что трагедия произошла в самом тихом месте на свете – библиотеке. Второй раз вылететь с одной и той же работы – то же самое, что второй раз развестись с одним и тем же человеком. Кажется, всё уже знаешь, всё предвидишь. А когда тебя бьют, не ожидаешь. Когда я уходила в первый раз, никто не шелохнулся. На общей планерке сидели заведующие 20 филиалами библиотечной системы. Он знали меня, как энтузиаста по массовой работе, и перед этим спокойно выслушали мой восторженный доклад о творчестве писателя, и как его книги можно преподнести для читателей. А затем – сообщение о том, что якобы я, получив доступ к компьютеру, печатала на нем книги поэтов и использовала его как средство наживы. Какая от поэтов нажива – это еще вопрос. Но никто не стал спорить с официальным заявлением, что я воровка. И я, конечно, ушла. Зачем мне было оставаться с людьми, которые считают меня такой? Стило ли ради них всё это терпеть? Но гостиная в библиотеке мне буквально снилась. Произвол начальника разлучил меня с любимой работой, с людьми, которые любили ходить в гостиную. Я создала там пространство, в котором пересекались жанры, знакомились люди, совершенно необходимые друг другу. Поэты и композиторы. Писатели и читатели. Художники и покупатели. Барды пели. Дети получали новые представления. Усталые отдыхали. В общем… Пришлось пройти множество мест, откуда я вылетела еще быстрее. И вернуться обратно. Где-то не платили, где-то платили, но не делали запись в трудовой книжке. И главное – нигде, нигде не было праздника общения. И нигде я больше не могла соединить литературу и жизнь, понимаете? А там она соединялась сама собой. И я решила вернуться. Я была согласна не спорить, сносить унижения, лишь вернуть то чувство нужности, которое было потеряно невозвратно. И тогда меня выгнали во второй раз. Я сопротивлялась. Люди, которые любили меня, должны были наконец понять, что надо отстаивать право на нормальную работу и интересную жизнь. Неужели им легко было смотреть, как меня топтали? Но смотрели. Если в первый раз прошла такая туфта, то во второй раз средство было посильнее. Они взяли и закрыли гостиную. И сколько бы ни писали возмущенные читатели, что не согласны, – всё бесполезно. Закрыли, и всё. Понимаю, что это для видимости. Надо было меня убрать – убрали, и написали сверху: «Производственная необходимость». Но это ложь. Необходимость для администрации. Читатели ведь сказали иное. А почему так произошло? Почему личные амбиции начальницы поставлены выше, чем интересы читателя? Потому что она не терпит рядом с собой никого, кто с ней не согласен. Она требует единомыслия. А если его нет, сетует на отсутствие коллектива. А зачем Кабанихе коллектив? Для прикрытия произвола. Однако коллектив народился понемногу. Если в прошлый раз ВСЕ МОЛЧАЛИ, то в этот второй раз НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК выступили в мою защиту. И не то чтобы я так любила грубую лесть. Просто было видно, что они уже не так боятся.
А чтобы и дальше сидеть, смаргивать оскорбления? Так нет – клуб, видите ли, Маша Арбатова засорила, иными словами, головы людям засорила, толкнула на вольнодумство. Люди дрогнули и вспомнили о достоинстве. И совершенно зря. Потому что месть свершилась. Меня вместо гостиной посадили за шкаф покрываться пылью. Люди остались сиротами. Я лишилась работы, которую лучше меня никто не сделает. Пришлось опять искать… Ну, хорошо, меня «ушли». Доказали, что я ничто. Я унесла ноги, а сама знаю, что будет с теми, кто станет следующей жертвой. С НТВ то же самое. И вроде всё ясно, и крыть нечем, лучше не смотреть друг другу в глаза…
Вчера вышла в областной газете «Красный Север» очередная статья вологодского писателя Василия Белова, где он поливает грязью всех подряд, и, в частности, хорошего человека, директора картинной галереи Владимира Воропанова (авторитет не просто областного, а международного масштаба). Люди хватаются за голову, Воропанов вяло отвечает на вопросы REN-ТВ. В кафе вчера седой профессор, соросовский учитель, сидел с этой статьей сам не свой (он тоже в числе «заклейменных»). Всем стыдно, все понимают, что клиника налицо, все опускают глаза. Чтобы не смотреть друг на друга…
Дневник писателя. Мытарство
30 августа 2001-го
«Цель русского писателя – работать на благо России», – говорит председатель Вологодской писательской организации Роберт Балакшин, именно так называя себя и своих коллег, а не отделением Союза писателей России. Потому что это особые, отдельные писатели, не желающие быть частью общего. Сорок лет организации отмечено обширным интервью Р. Балакшина в «Русском Севере», где он снят молоденький, в косоворотке. Человек искренне верит, что он работает на благо России. Потому что вологодская писательская школа – оплот почвенничества и патриотизма. А то, что на пороге сорокалетия ни одного молодого соратника рядом, это ничего. На торжестве в честь сорокалетия вологодской организации в областной филармонии ожило кладбище: хор голосов пел о том, что РАЙисполкомы при старой хорошей жизни – это от слова «рай», АДминистрации нынешние – от слова «ад»… Вот проблемы у людей, любящих слова… А я – не организация, просто Галя Щекина, и я обиваю пороги, чтобы выпросить помещение для литературного объединения, которому тридцать лет, немного поменьше, чем титулованным писателям. Где только мы не заседали! В заводской редакции, в библиотеке завода, даже на проходной, потом снова библиотеки, кафе, культурные центры – и снова на улице. Потому что безарендно просим, а везде и у всех самоокупаемость. Двадцать человек, иногда больше, иногда меньше, но вечная тяга найти золотой абзац. Интерес друг к другу, к литературе. Много наших поступило в Литинститут, многие опубликовались в книжках и разных изданиях. Неважно. Сидите в подполье! Литобъединение и у Балакшина есть. Его ведет знаменитая Ольга Фокина – пожалуйте, господа, в уютный особнячок Департамента культуры, заседайте на здоровье. Но по нашим законам и правилам. «Потому что другое, если оно нам не нравится, не существует вообще». И вот я снова звоню и хожу, везде лишняя, ибо понимаю: если я их брошу, то кому они будут нужны, не известные миру поэты? Последняя наша акция – презентация книжки «Мед» 19-летнего Антона Чёрного (не псевдоним), потом три месяца бездействия. Сейчас последний хит – книга Веры Белавиной о Сопине «Нет, жизнь моя не горький дым». Она первая описала то, что никто не смог… И я не смогла! Лет семь назад написала черновик о нем, литературная запись авторской речи. И не могу издать. Говорят, это жестоко, это убьет его (ему 70). Почему? Потому что с нею Сопин проявил терпение, позволил делать что хочет, вникал в процесс. А то, что я написала, было отвергнуто раз и навсегда. Я должна ждать его смерти? В книге Белавиной Сопин велик и мудр, как Ленин. В моем переложении он и велик, и ничтожен, как все люди. Нет, конечно, я верю, что Вера искренна, но ей позволено, мне нет. (Не смог и никто из группы Балакшина). Будем ли обсуждать это и где? Мы – вне закона. Только за последнюю неделю отказали в трех местах!
Так, передышка. Кажется, директор городского ДК Зверева пошла нам навстречу: «Если будете выступать перед ветеранами». Да будем мы, будем. На всё согласны за пустой класс два раза в неделю. Я думаю, ну хорошо, я напрягусь и созову людей еще на одну акцию. Ну прочту еще десять рукописей, по году на каждую потрачу, если талантливо. Ну, три человека найду, достойных для союза. Ну, не брошу свое Лито. Чего бы мне ни стоило. Но всё равно это будничная работа, это не войдет в историю. Они не позволят.
Лет десять назад мы с Балакшиным совпали: в одном автобусе и в одной деревне картошку у фермера копали. Тогда мы, кажется, были равны во всем. Он даже шутил со мной, делился замыслами, весь простецкий, сощуренный такой, в драной куртке. Мы, наверно, даже годами одинаковы. А что теперь произошло? Мы были председатели разных союзов, говорю «были», потому что даже мои люди меня отвергли, те, которых я сама находила и любила. И что-то для них делала, книжки, рецензии, презентации, в печать, да и просто звонила, выслушивала, где заколодило. Меня мои коллеги по перу выбросили из председателей, и даже Света Василенко перестала со мной общаться, не отвечает на письма… А вы говорите: эпоха Водолея, женщины займут наконец по праву свое место в обществе. А вы говорите: Бог испытывает тех, кого любит. Судя по испытаниям, да…
1 октября 2001-го. Как страшно быть! (прощание с Николаем Елсуковым)
«Как страшно быть! Не быть еще страшнее…» Это однажды сказала Ольга Эсхата, теперь ее слова вспыхнули бегущей строкой. Потому что его мама прошептала: «Всё хорошо, как ты хотел. Ты хотел умереть, ты добился…» Мама, поникнув, гладила огромного двухметрового сына по окаменевшей щеке, по сложенным на груди рукам, качала головой. На это оцепенело смотрели молодая в черном вдова и его сынишка, теребящий цветы. Бледный как стена стоял младший брат Коли, опора матери. Внезапный женский плач усилил всеобщую растерянность. Никто не мог ничего сказать. И правда, это страшно – уйти в 38. Беликов однажды сказал, что Пермь убивает своих поэтов – Бурашников, Гашев. А разве только Пермь? Вологда – то же самое! Он был третьим из моих друзей, сгоревшим от водки. Он был единственным, говорившим с сестрой Цветаевой. Для меня это огромно. Ездил в Москву, бродил около дома, удалось встретиться! Он узнал, что я сочиняю песни на стихи Цветаевой, и заставил меня записать их на кассету. Он эти песни любил. У меня осталась дома его оранжевая тетрадь с переписанными отрывками писем Марины Ивановны – говорил, что понимает каждую строчку, страдая от причинения ей боли – там, в прошлом. Написал об этом стихотворение, самое известное у него. «Москва. Февраль, сумятица и слякоть. / Да тут еще бессонница и снег. / Единственная мысль: уйти и плакать! – / В тот дом, в тот мир, в тот непонятный век… / Здесь жил Поэт, из стольких мест изгнанник, / И этот дом – душа его души. / Душа теперь свободна от страданий, / И в доме не осталось ни души… // Здесь бережно укладывались в строчки / Слова и слезы. Прежнее тепло / Теперь куда уместней и желанней / Для этих стен, чем брошенный простор. / Исчезло время в бездне ожиданья, / Ушел поэт. Окончен вечный спор…» Поэт Николай Елсуков оставил нам всего одну книжку стихов: «И сон, и бред». Туда вошло в два раза меньше стихов, чем было набрано. А ведь он говорил, что доверяет! Он всё время что-то отбрасывал. Картинку для обложки тоже нашел сам – рыбы и птицы плывут сквозь деревья. Обратимость среды? Его стихи резонировали на всё, что он знал и любил. В его творчестве были мотивы Цветаевой, римских поэтов, Бродского… Я писала о нем статьи, комментарии, но кому это теперь нужно? Знакомство наше попало на то счастливое время, когда у него, казалось, было всё: любовь, работа, творчество. И у него всё получалось. Хорошо работал по дереву, про таких говорят: столяр-краснодеревщик, золотые руки. Чинил всё очень быстро, от полки до мудреной детской кроватки. Он приходил ко мне с большой черной сумкой через плечо, там были толстые общие тетради, заполненные стихами: «Почитаешь?» Читала, перепечатывала, а он говорил: нет, это плохое, лучше вот это. Да, это был мечтатель, которого всё тянуло вверх. Он любил ходить не по земле – по крышам. Так и снят на фото в сборнике стихов. Может, он стремился в высокий слой жизни, в который никак не мог попасть? Женился на поэтессе. Буквально летал по городу, преображенный внезапным светом. На ладони (не на пальце) золотое кольцо. Но, наверно, он не был создан для семьи. С ним было тяжело жить, он мог молчать месяцами. Потом стал пить. Сломалось что-то. Да, ему дано было много. Талант любить, слышать музыку, музыку чужих стихов, музыку самой жизни… Писать!.. Его было за что любить, у него были такие романы – до женитьбы. Но… Куда, куда девалось всё это?! Ругал друзей, которые пьют беспросыпно, и всё же не мог от них оторваться. И друзья до сих пор живы, а он… Однажды ушел после размолвки бродить по ночным улицам и оказался в больнице – с проломленной головой. После этого катастрофы пошли одна за другой. Очень любил Коля Елсуков авторскую песню, часами слушал песни под гитару, уронив голову на руки. Ездил несколько раз на фестиваль авторской песни на реке Петух. От костра пошел к машине за пивом и пришел к рассвету – «там какой-то завод» (в глухом кадуйском лесу). В последние годы работал грузчиком на городском рынке. Я видела его только на днях рождения сына Дани, которого он сильно и немо любил. Всё время покупал разные дорогие штучки. В компаниях сидеть уже не мог. Коля любил зарубежную литературу, особенно роман «Пена дней» Бориса Виана… и Анчарова. Ликовал: «Он выразил всего меня». Мы увлекались тогда стихами Лукина – Коля принес много музыки, и это было невероятно, как он всё угадал. Привел ко мне поэта Андрея Кокова, своего друга, уехавшего в Финляндию. Если бы не Коля, пожалуй, не было бы книжки Андрюши Кокова «Искушение ветром». Коля был ужасный, непомерный мечтатель. Он как бедный Герасим, у которого всё отобрали – большой, русский, неистовый и лохматый. Но у него всё было – и всё потерялось… Что же было с душой, которая чем больше жаждала, тем больше погружалась в темень? Хотел какой-то особой среды – и неизменно оказывался среди забулдыг. Любил он, любили его – и оказался один. «С любовью не получилось. Остальное – неважно». «Ты уносишь прохладу и запахи, оставляя тяжелую артиллерию… / При своем независимом статусе между пыльным окном и дверью. / Убываешь ты, удаляешься, впопыхах позабыв про главное, / Что деснице твоей карающей предстоит здесь работа славная… / Всё какие-то меры крайние, что-то вроде цветка и трактора, / И раскачивается здание аж от полюса до экватора…» Несколько раз приходил на Лито и демонстративно уходил. Люди взволнованно обсуждали его стихи, но он их вообще не слушал. Он как будто всё время писал одно и то же стихотворение. Жил в параллельном мире? «Два голоса на параллелях / Навечно – ввысь. / Нам никогда не разминуться / И не сойтись. / Мы свято верим в то, что знаем – / Огонь и лед. / А может, будешь ты чужая / Наоборот. / Два голоса на вертикалях / Не врозь, а связь. / Пусть не получится, сверкая / Уйдем смеясь. / Но нить тонка и связь непрочна / В людской толпе, / Сожмемся в атом, будем – точность / В одной строке. / Мы не расстанемся, расстаем, / Уйдем с луной / И на прощанье прочитаем: / «Мне нравится, что вы больны не мной». В его архиве вместе с огромной пачкой рукописных стихов обнаружились три затрепанных-зачитанных пресс-релиза Н. Сучковой, самой известной вологодской поэтессы из молодых. Был ли он фанатом Сучковой, не знаю, но сталкиваясь с нею в гостях или на концертах, он вряд ли помнил, что это именно она, не узнавал. Из его посвящения Сучковой: «Уходящие в строфы звонкие вырождаются – / Ведь осенние ночи поутру начинаются… / Лето кончилось, вот и осень уже кончается, / Что-то робкое и несмелое подбирается. / А листва под ногами стелется, будто спящая, / Будто не было, будто сгинули, / Приходящие – уходящие…»
5 октября 2001-го. Когда кончался век ХХ
Когда кончался ХХ век, мы задавали друг другу вопрос: «Какой будет культура нового века?» Одни говорили: искусство будет еще более сложным, другие – всё и так слишком усложнено, наоборот, скоро придет пора самых простых человеческих ценностей. Одни говорили: в технократический век мы нуждаемся в капельке тепла, а другие твердили, что только интеллект приведет человека к новым высотам. Разброс наших мнений, ернических и серьезных, хорошо отражен в сборнике «Культурный герой ХХI века». А Наугольный тогда сказал: «Если культура вообще будет». Сегодня он говорит: «Ради чего ломали копья? Нет ее, культуры, нет литературы, чье влияние на мир ничтожно. Никто ничего не читает, во-первых. Смотрю на толпу упившейся пивом молодежи, День города, конечно, что им еще делать – только пьяной толпой ходить… Бить друг друга, уродовать. Это чернь. Она не способна понять». – Наугольный говорит с такими нервами, что я пугаюсь. А сами-то мы кто, не чернь, что ли? Но ты же сам говорил: «Водка – это красота, чистота, благородство… Мудрость!» Говорил? И пил. Я напоминаю Наугольному его же афоризм.
– Нет, я свое выпил. Просто Венечка Ерофеев и Липскеров с Павловым не могут на одной полке стоять.
– Ну и почему? Занятно, затейливо.
– Мне нравится Липскеров, который здесь и сейчас, а Ерофеев – это прошлое.
– Кроме того, зачем ты классифицируешь?
– Затейливое – не вечное. Холодное, путаное, не притянет. Татьяну Толстую провозгласили лучшей, по радио будут читать. Как же. Десять лет назад это было бы – да. А теперь это – так… Словеса. А славят. А ведь еще хуже делают. Отталкивают людей, кому еще не противно, кто еще верит. Вообще никого не останется.
– Но Павлов? Это страшная правда о нашем времени. Ему тоже не веришь?
– Да что Павлов! Это хроникер, публицист. Работает ради денег. Ради комфорта.
– Кто же не любит комфорт? Чтобы нормально жить, чтобы всё было.
– Я с тоской обозреваю свою бедную заброшенную комнату. Кресла старые, диван еле держится, обоям лет десять… Да не надо мне, чтобы всё было. У меня знакомая как поговорит с матерью, как та настроит ее самолюбие, так знакомая хватается за кошелек, деньги бросается зарабатывать, ни-че-го не понимает. А сама – не такая. Как с матерью не говорит – так высокое разумеет. Меня вызвали на семинар, кусок мне бросили, чтобы я уже не был свободен… Чтобы, что хочу, не говорил… – накаляет Наугольный телефонную трубку.
– Неправда, никто тебе не мешает. Ни к чему не обязывает. Говори ты что хочешь, специально тебя в Москву зовут, чтобы ты с подобными себе поговорил. Да еще, может, в журнале каком напечатают. Что ты всё наизнанку выворачиваешь. Когда меня в Москву звали, я ехала с огромным любопытством. Тем более что это быстро кончилось…
– А откажусь и не поеду. Назло. Не хочу быть обязанным, – гневается Наугольный. – И так свободы нет, а они еще больше перекрывают!
– Насчет брошенных кусков – это было, да и в «Графоманке» я про это писала, помнишь главу «Как их только не разорвет»? А где еще свободу тебе перекрыли? Сиди, пиши… только пиши. Чтоб этот вопль души не в телефон, а как-то письменно. Например, об этом социуме, который никогда ничего не поймет. Но это же не твое дело, твое дело – писать… Если можешь… Я вспоминаю, как занималась литературной пропагандой, и меня прозвали «культмассовым сектором вологодской литературы».
– Вот, писать! А зачем, если выхода к читателю нет? Архипов прав: у нас резервация («Резервация» – название книги Архипова). Вас загнали в ваше Лито в пятнадцать человек – вот и сидите. Вот вам все ваши границы!
– Ну и что? – Я грустно замолкаю. – Я поняла, что не состоялась. И отношусь к этому спокойно. Ладно, хоть мы с тобой говорим…
Галина Щекина
Александр Дудкин
Современность не располагает к медленному чтению и письму, а ведь некогда люди целые дни и недели тратили на бумажные письма, особенно, если дружили на расстоянии. Сейчас письма стали электронными, обрывистыми, из них часто уходит тепло. Эта книга – напоминание о том времени, когда письма помогали жить. Книга содержит нецензурную брань.
Начистоту
Книга писем
Галина Щекина
Александр Дудкин
Фотограф – фото на обложке (портрет Г. Щекиной) Александр Анатольевич Дудкин
Корректор Зоя Сергеевна Елизарьева
© Галина Щекина, 2020
© Александр Дудкин, 2020
ISBN 978-5-4498-9254-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Дневники
Галина Щекина. Писательский дневник июнь 2001-го. на Скансайте
Шеваров, который описывает юного доктора Дюкова, который вместо каникул работает в деревенской больничке и любит Соловьёва. «Белые крахмальные халаты здесь видели не чаще белых ворон». «Я везде возил эту пленку с собой и, когда скверно было на душе, в сотый раз слушал про дорогу дальнюю, и ночку лунную, белую акацию и маленький плот, который уплывал в мир счастья и покоя. А счастье и покой были с нами в ту июньскую ночь, когда я, корреспондент вологодской „молодежки“, вместо интервью со своими героями записывал зачем-то и эти песни, и эту ночь, и случайные разговоры за столом. Мне было хорошо с этими людьми и было жаль, что надо писать статью о деле, о проблемах, и мне никогда не удастся объяснить, почему так хорошо здесь, в двадцати километрах от северного городка Никольска… С уходом Эдика Дюкова дверь в ту июльскую ночь для меня закрылась… Эдик: „Здесь по-особому себя чувствуешь, есть некая миссия, которую ты выполняешь. И не потому, что мы здесь великие диагностики, взяли и пошли в народ, не надо об этом… Можем приехать, можем уехать, но общение с человеком, когда он видит заинтересованность в его жизни, никогда не пропадает напрасно. Здесь людям этого не хватает. Они много работают, но при этом каждый понимает – он винтик, как и раньше. А наше отношение он чувствует. Бескультурье, говорят. Нет, я не согласен. Вся наша культура – отсюда, с Севера пошла. К этому нельзя так: „Ах, глушь, темень…“ У нас, врачей, острая реакция, мы видим то, что, может быть, другие не видят. Здесь очень хорошие люди в душе своей… Соловьёв очень важен для меня. Я нахожу в нем опору своих мыслей. Его отношение к людям – высшее христианское отношение, нам это не дано, и не в смысле религиозности. У него работа есть интересная о Пушкине, закономерна ли гибель Пушкина… Он раненый привстал и стрелял, представь, он убил бы Дантеса! Как бы мы его воспринимали? В дуэли он отдался низким чувствам, мести. Он не должен был делать, как все…“ После Америки Эдик был одержим идеей больницы единомышленников и надеялся, что церковь ему поможет. Он мечтал о такой детской больнице, где высший уровень чисто медицинского лечения соединился бы с традициями русского милосердия, духовного врачевания. Незадолго до смерти Эдик оживил ребенка, у которого не было пульса. Родители принесли розы, которые быстро засохли, санитарка их выбрасывала, а он доставал из ведра и снова ставил их на стол».
Я не сравниваю. Я просто начинаю дышать и жить, поскольку есть ради чего. Мысль описывает круги и внезапно попадает в болевую точку. И я думаю уже о своем читателе, может ли он дышать после моих рассказов. Одна женщина после моей повести «Графоманка» попала в психдиспансер, я поехала туда, и она мне всё рассказала. Ее муж бил за стихи, а тут и я добавила. Ей не попался Шеваров! Но о том, сколько добра и зла в моей прозе, я не думать не могу. Это сначала пишешь на потоке эмоций, торопишься изречь, ну а после? Остынешь – приходится смотреть правде в глаза.
Г. Щекина. Писательский дневник
Когда написала «Графоманку», у меня было радостное мстительное чувство. (Вроде того, как я на всех конференциях поливала местный Департамент культуры, начиная с областного радио, кончая корреспонденткой радио «Свобода» Машей Ряховской. И эти поливания как-то доходили до главы департамента, и люди качали головой: зачем она нас позорит? А затем, что вы меня погубили! И не только меня…) То есть я понимала, что этой «Графоманкой» я пишу черную летопись. Но хоть здесь могла говорить правду. Первые муки и сомнения начались с Ольги Фокиной, знаменитой поэтессы. «Ты что, думаешь, у меня не было горя? – спросила она. – Было. Но я же не сую его людям в лицо».
А я сую! Я не глотаю свое горе, не давлюсь им, нате, другие, давитесь. Я ахнула. Люди захотят во мне черпнуть, а я им – р-раз! – наотмашь. Пришли в эту книжку, как к помощнику, а здесь – наоборот. Вот эта женщина в районе, Дина, видеть надо было, как она стихи читала, волосы тяжелые крутила на затылке и говорила свои стихи – целый час, может, больше. И никаких тетрадок, всё в голове, а тетрадки муж пожег, порвал, а ее напинал. И она не возмущалась. А разбитыми губами всё: «Люблю, люблю…» И она стала читать «Графоманку» и возмутилась всей собой – не за себя. Такие только чужое больно понимают, такие они, русские женщины. Она стала спину разгибать, наперекор семье идти, мужу военному, свекрови, и стихи записывала, и не скрывала, что про любовь. А в деревне так нельзя. У нее внутри одно, в жизни другое. Так что же? Как говорит Сопин, «сколько дерьмо (реактор) не заливай бетоном, всё равно рванет». Вот и рвануло. У Дины началась хворь. Ее начнут оскорблять всяко, по хозяйству утыкать, а она уже понимает, что они – ничтожества. И говорить им без толку. Она начинала задыхаться – это была такая ж а б а. Потом ее без памяти увезли на отделение. Я поехала к ней, она рассказала мне всё. Потом я долго отойти не могла. Думала, с ума сойду. Разве я помогла ей? Наоборот, сделала хуже. Она решила, что сможет пробиться, и не смогла. Так и бросила потом писать. Просвещенные эзотерикой люди говорили, что книжка «Графоманка» просто напитана негативом. Мои родные! Почитайте «Черное зеркало» Мамлеева и Павлова! Я против них цыплок неоперенный. Проблемы с прообразами. Не такие, как у милой Нины Горлановой. Наоборот, я успела написать героя по имени Упхолов («Ну и мерзкое имя, – говорили мне, – просто в горле першит!») со своего приятеля и дала ему прочесть черновик. Он стал смеяться, ему даже понравилось. А там такая как бы карикатура! Я говорю: «Ну что твои стихи валяются, дай я вставлю их. (Чем выдумывать поэта – вот же пропадает настоящий поэт). Всё равно ты не будешь их печатать!» Ладно. Вставила. А он умер потом, приятель. И все опять головами качают: как ты могла?! Без ссылки! Так разве я думала? А на родину поэта мне теперь приходится ездить, потому что надо же кому-то в библиотеке районной выступать. А он там в «Графоманке» таким алкашом представлен, что боже мой. Пришлось настоящую книгу делать с его наследием. И про другого писателя написала правду, но все говорят: если он это прочтет, его удар хватит. Лучше жди, когда сам умрет. А он же дорог мне, так что ж, я смерти ему пожелаю? Нет, лучше не писать, не печатать ничего. Так и не выпустила книжку, про приятеля из «Графоманки» помня. Кому нужна правда? Да бог с ней…
И так меня грызла совесть, что в следующем сборнике я выпустила рассказы совсем в другом тоне – «Ария», благодарность и примирение. Теперь думаю, совсем рехнулась, так прогибаться перед жизнью. В конце концов, я не просто летописец. Вот Руслан Киреев говорит, это, мол, физиологический очерк. Но это фон. Основное – это я. Я хочу о себе рассказать, но приходится, как той Дине, прикрываться образом. Не то напинают, а тетрадки пожгут. И я пишу повесть про художника-самодельщика, который не учился, а просто так, на порыве писал. И что из этого вышло. Почему художник? Люблю художников. Психология творчества – такая могучая вещь, ей невозможно не подчиниться. Я и подчиняюсь. Смотрю теперь на эту «Графоманку» и удивляюсь: отчего они про негатив? Она же лучше меня, героиня, то есть это моя мечта – такой быть, только ее заставили не писать, а я не поддалась. Теперь я заканчиваю повесть про художника под названием «Благодарю», и меня ошарашивает: история повторяется! Опять! После «Графоманки» была умильная «Ария», а после пьяночной и наглой «Ностальжи» – опять, значит, тихое «Благодарю». Что же это такое? Вроде бы никто меня не заставлял каяться… А вот так вот! Знай свое место, писака. Может быть, у кого-то тоже такие казусы. А может, еще похлеще. Наверно, мудрость в том, что само небо заставляет меня соблюдать равновесие. Не Фокина, допустим, а нечто выше. Хотя Фокина это почувствовала раньше… А если совсем без масок? Что получится? Была не была…
18/07/2001 Вологда
10 августа 2001 года.
Страна и я в одной канаве
ся моя семья весной смотрела передачу про закрытие НТВ. А перед этим вся семья смотрела митинг в знак солидарности с НТВ. У меня было двойственное чувство: вроде бы всё правильно, наши победят, должны бы победить… Но не победят. Уже не победили. Они в панике, они слишком близко подошли к этой пропасти. В которую я падала тоже и упала еще раз. Только в мою честь никто митингов не собирает. Потому что масштабы трагедии не те. А ситуация та же самая. Несмотря на то, что трагедия произошла в самом тихом месте на свете – библиотеке. Второй раз вылететь с одной и той же работы – то же самое, что второй раз развестись с одним и тем же человеком. Кажется, всё уже знаешь, всё предвидишь. А когда тебя бьют, не ожидаешь. Когда я уходила в первый раз, никто не шелохнулся. На общей планерке сидели заведующие 20 филиалами библиотечной системы. Он знали меня, как энтузиаста по массовой работе, и перед этим спокойно выслушали мой восторженный доклад о творчестве писателя, и как его книги можно преподнести для читателей. А затем – сообщение о том, что якобы я, получив доступ к компьютеру, печатала на нем книги поэтов и использовала его как средство наживы. Какая от поэтов нажива – это еще вопрос. Но никто не стал спорить с официальным заявлением, что я воровка. И я, конечно, ушла. Зачем мне было оставаться с людьми, которые считают меня такой? Стило ли ради них всё это терпеть? Но гостиная в библиотеке мне буквально снилась. Произвол начальника разлучил меня с любимой работой, с людьми, которые любили ходить в гостиную. Я создала там пространство, в котором пересекались жанры, знакомились люди, совершенно необходимые друг другу. Поэты и композиторы. Писатели и читатели. Художники и покупатели. Барды пели. Дети получали новые представления. Усталые отдыхали. В общем… Пришлось пройти множество мест, откуда я вылетела еще быстрее. И вернуться обратно. Где-то не платили, где-то платили, но не делали запись в трудовой книжке. И главное – нигде, нигде не было праздника общения. И нигде я больше не могла соединить литературу и жизнь, понимаете? А там она соединялась сама собой. И я решила вернуться. Я была согласна не спорить, сносить унижения, лишь вернуть то чувство нужности, которое было потеряно невозвратно. И тогда меня выгнали во второй раз. Я сопротивлялась. Люди, которые любили меня, должны были наконец понять, что надо отстаивать право на нормальную работу и интересную жизнь. Неужели им легко было смотреть, как меня топтали? Но смотрели. Если в первый раз прошла такая туфта, то во второй раз средство было посильнее. Они взяли и закрыли гостиную. И сколько бы ни писали возмущенные читатели, что не согласны, – всё бесполезно. Закрыли, и всё. Понимаю, что это для видимости. Надо было меня убрать – убрали, и написали сверху: «Производственная необходимость». Но это ложь. Необходимость для администрации. Читатели ведь сказали иное. А почему так произошло? Почему личные амбиции начальницы поставлены выше, чем интересы читателя? Потому что она не терпит рядом с собой никого, кто с ней не согласен. Она требует единомыслия. А если его нет, сетует на отсутствие коллектива. А зачем Кабанихе коллектив? Для прикрытия произвола. Однако коллектив народился понемногу. Если в прошлый раз ВСЕ МОЛЧАЛИ, то в этот второй раз НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК выступили в мою защиту. И не то чтобы я так любила грубую лесть. Просто было видно, что они уже не так боятся.
А чтобы и дальше сидеть, смаргивать оскорбления? Так нет – клуб, видите ли, Маша Арбатова засорила, иными словами, головы людям засорила, толкнула на вольнодумство. Люди дрогнули и вспомнили о достоинстве. И совершенно зря. Потому что месть свершилась. Меня вместо гостиной посадили за шкаф покрываться пылью. Люди остались сиротами. Я лишилась работы, которую лучше меня никто не сделает. Пришлось опять искать… Ну, хорошо, меня «ушли». Доказали, что я ничто. Я унесла ноги, а сама знаю, что будет с теми, кто станет следующей жертвой. С НТВ то же самое. И вроде всё ясно, и крыть нечем, лучше не смотреть друг другу в глаза…
Вчера вышла в областной газете «Красный Север» очередная статья вологодского писателя Василия Белова, где он поливает грязью всех подряд, и, в частности, хорошего человека, директора картинной галереи Владимира Воропанова (авторитет не просто областного, а международного масштаба). Люди хватаются за голову, Воропанов вяло отвечает на вопросы REN-ТВ. В кафе вчера седой профессор, соросовский учитель, сидел с этой статьей сам не свой (он тоже в числе «заклейменных»). Всем стыдно, все понимают, что клиника налицо, все опускают глаза. Чтобы не смотреть друг на друга…
Дневник писателя. Мытарство
30 августа 2001-го
«Цель русского писателя – работать на благо России», – говорит председатель Вологодской писательской организации Роберт Балакшин, именно так называя себя и своих коллег, а не отделением Союза писателей России. Потому что это особые, отдельные писатели, не желающие быть частью общего. Сорок лет организации отмечено обширным интервью Р. Балакшина в «Русском Севере», где он снят молоденький, в косоворотке. Человек искренне верит, что он работает на благо России. Потому что вологодская писательская школа – оплот почвенничества и патриотизма. А то, что на пороге сорокалетия ни одного молодого соратника рядом, это ничего. На торжестве в честь сорокалетия вологодской организации в областной филармонии ожило кладбище: хор голосов пел о том, что РАЙисполкомы при старой хорошей жизни – это от слова «рай», АДминистрации нынешние – от слова «ад»… Вот проблемы у людей, любящих слова… А я – не организация, просто Галя Щекина, и я обиваю пороги, чтобы выпросить помещение для литературного объединения, которому тридцать лет, немного поменьше, чем титулованным писателям. Где только мы не заседали! В заводской редакции, в библиотеке завода, даже на проходной, потом снова библиотеки, кафе, культурные центры – и снова на улице. Потому что безарендно просим, а везде и у всех самоокупаемость. Двадцать человек, иногда больше, иногда меньше, но вечная тяга найти золотой абзац. Интерес друг к другу, к литературе. Много наших поступило в Литинститут, многие опубликовались в книжках и разных изданиях. Неважно. Сидите в подполье! Литобъединение и у Балакшина есть. Его ведет знаменитая Ольга Фокина – пожалуйте, господа, в уютный особнячок Департамента культуры, заседайте на здоровье. Но по нашим законам и правилам. «Потому что другое, если оно нам не нравится, не существует вообще». И вот я снова звоню и хожу, везде лишняя, ибо понимаю: если я их брошу, то кому они будут нужны, не известные миру поэты? Последняя наша акция – презентация книжки «Мед» 19-летнего Антона Чёрного (не псевдоним), потом три месяца бездействия. Сейчас последний хит – книга Веры Белавиной о Сопине «Нет, жизнь моя не горький дым». Она первая описала то, что никто не смог… И я не смогла! Лет семь назад написала черновик о нем, литературная запись авторской речи. И не могу издать. Говорят, это жестоко, это убьет его (ему 70). Почему? Потому что с нею Сопин проявил терпение, позволил делать что хочет, вникал в процесс. А то, что я написала, было отвергнуто раз и навсегда. Я должна ждать его смерти? В книге Белавиной Сопин велик и мудр, как Ленин. В моем переложении он и велик, и ничтожен, как все люди. Нет, конечно, я верю, что Вера искренна, но ей позволено, мне нет. (Не смог и никто из группы Балакшина). Будем ли обсуждать это и где? Мы – вне закона. Только за последнюю неделю отказали в трех местах!
Так, передышка. Кажется, директор городского ДК Зверева пошла нам навстречу: «Если будете выступать перед ветеранами». Да будем мы, будем. На всё согласны за пустой класс два раза в неделю. Я думаю, ну хорошо, я напрягусь и созову людей еще на одну акцию. Ну прочту еще десять рукописей, по году на каждую потрачу, если талантливо. Ну, три человека найду, достойных для союза. Ну, не брошу свое Лито. Чего бы мне ни стоило. Но всё равно это будничная работа, это не войдет в историю. Они не позволят.
Лет десять назад мы с Балакшиным совпали: в одном автобусе и в одной деревне картошку у фермера копали. Тогда мы, кажется, были равны во всем. Он даже шутил со мной, делился замыслами, весь простецкий, сощуренный такой, в драной куртке. Мы, наверно, даже годами одинаковы. А что теперь произошло? Мы были председатели разных союзов, говорю «были», потому что даже мои люди меня отвергли, те, которых я сама находила и любила. И что-то для них делала, книжки, рецензии, презентации, в печать, да и просто звонила, выслушивала, где заколодило. Меня мои коллеги по перу выбросили из председателей, и даже Света Василенко перестала со мной общаться, не отвечает на письма… А вы говорите: эпоха Водолея, женщины займут наконец по праву свое место в обществе. А вы говорите: Бог испытывает тех, кого любит. Судя по испытаниям, да…
1 октября 2001-го. Как страшно быть! (прощание с Николаем Елсуковым)
«Как страшно быть! Не быть еще страшнее…» Это однажды сказала Ольга Эсхата, теперь ее слова вспыхнули бегущей строкой. Потому что его мама прошептала: «Всё хорошо, как ты хотел. Ты хотел умереть, ты добился…» Мама, поникнув, гладила огромного двухметрового сына по окаменевшей щеке, по сложенным на груди рукам, качала головой. На это оцепенело смотрели молодая в черном вдова и его сынишка, теребящий цветы. Бледный как стена стоял младший брат Коли, опора матери. Внезапный женский плач усилил всеобщую растерянность. Никто не мог ничего сказать. И правда, это страшно – уйти в 38. Беликов однажды сказал, что Пермь убивает своих поэтов – Бурашников, Гашев. А разве только Пермь? Вологда – то же самое! Он был третьим из моих друзей, сгоревшим от водки. Он был единственным, говорившим с сестрой Цветаевой. Для меня это огромно. Ездил в Москву, бродил около дома, удалось встретиться! Он узнал, что я сочиняю песни на стихи Цветаевой, и заставил меня записать их на кассету. Он эти песни любил. У меня осталась дома его оранжевая тетрадь с переписанными отрывками писем Марины Ивановны – говорил, что понимает каждую строчку, страдая от причинения ей боли – там, в прошлом. Написал об этом стихотворение, самое известное у него. «Москва. Февраль, сумятица и слякоть. / Да тут еще бессонница и снег. / Единственная мысль: уйти и плакать! – / В тот дом, в тот мир, в тот непонятный век… / Здесь жил Поэт, из стольких мест изгнанник, / И этот дом – душа его души. / Душа теперь свободна от страданий, / И в доме не осталось ни души… // Здесь бережно укладывались в строчки / Слова и слезы. Прежнее тепло / Теперь куда уместней и желанней / Для этих стен, чем брошенный простор. / Исчезло время в бездне ожиданья, / Ушел поэт. Окончен вечный спор…» Поэт Николай Елсуков оставил нам всего одну книжку стихов: «И сон, и бред». Туда вошло в два раза меньше стихов, чем было набрано. А ведь он говорил, что доверяет! Он всё время что-то отбрасывал. Картинку для обложки тоже нашел сам – рыбы и птицы плывут сквозь деревья. Обратимость среды? Его стихи резонировали на всё, что он знал и любил. В его творчестве были мотивы Цветаевой, римских поэтов, Бродского… Я писала о нем статьи, комментарии, но кому это теперь нужно? Знакомство наше попало на то счастливое время, когда у него, казалось, было всё: любовь, работа, творчество. И у него всё получалось. Хорошо работал по дереву, про таких говорят: столяр-краснодеревщик, золотые руки. Чинил всё очень быстро, от полки до мудреной детской кроватки. Он приходил ко мне с большой черной сумкой через плечо, там были толстые общие тетради, заполненные стихами: «Почитаешь?» Читала, перепечатывала, а он говорил: нет, это плохое, лучше вот это. Да, это был мечтатель, которого всё тянуло вверх. Он любил ходить не по земле – по крышам. Так и снят на фото в сборнике стихов. Может, он стремился в высокий слой жизни, в который никак не мог попасть? Женился на поэтессе. Буквально летал по городу, преображенный внезапным светом. На ладони (не на пальце) золотое кольцо. Но, наверно, он не был создан для семьи. С ним было тяжело жить, он мог молчать месяцами. Потом стал пить. Сломалось что-то. Да, ему дано было много. Талант любить, слышать музыку, музыку чужих стихов, музыку самой жизни… Писать!.. Его было за что любить, у него были такие романы – до женитьбы. Но… Куда, куда девалось всё это?! Ругал друзей, которые пьют беспросыпно, и всё же не мог от них оторваться. И друзья до сих пор живы, а он… Однажды ушел после размолвки бродить по ночным улицам и оказался в больнице – с проломленной головой. После этого катастрофы пошли одна за другой. Очень любил Коля Елсуков авторскую песню, часами слушал песни под гитару, уронив голову на руки. Ездил несколько раз на фестиваль авторской песни на реке Петух. От костра пошел к машине за пивом и пришел к рассвету – «там какой-то завод» (в глухом кадуйском лесу). В последние годы работал грузчиком на городском рынке. Я видела его только на днях рождения сына Дани, которого он сильно и немо любил. Всё время покупал разные дорогие штучки. В компаниях сидеть уже не мог. Коля любил зарубежную литературу, особенно роман «Пена дней» Бориса Виана… и Анчарова. Ликовал: «Он выразил всего меня». Мы увлекались тогда стихами Лукина – Коля принес много музыки, и это было невероятно, как он всё угадал. Привел ко мне поэта Андрея Кокова, своего друга, уехавшего в Финляндию. Если бы не Коля, пожалуй, не было бы книжки Андрюши Кокова «Искушение ветром». Коля был ужасный, непомерный мечтатель. Он как бедный Герасим, у которого всё отобрали – большой, русский, неистовый и лохматый. Но у него всё было – и всё потерялось… Что же было с душой, которая чем больше жаждала, тем больше погружалась в темень? Хотел какой-то особой среды – и неизменно оказывался среди забулдыг. Любил он, любили его – и оказался один. «С любовью не получилось. Остальное – неважно». «Ты уносишь прохладу и запахи, оставляя тяжелую артиллерию… / При своем независимом статусе между пыльным окном и дверью. / Убываешь ты, удаляешься, впопыхах позабыв про главное, / Что деснице твоей карающей предстоит здесь работа славная… / Всё какие-то меры крайние, что-то вроде цветка и трактора, / И раскачивается здание аж от полюса до экватора…» Несколько раз приходил на Лито и демонстративно уходил. Люди взволнованно обсуждали его стихи, но он их вообще не слушал. Он как будто всё время писал одно и то же стихотворение. Жил в параллельном мире? «Два голоса на параллелях / Навечно – ввысь. / Нам никогда не разминуться / И не сойтись. / Мы свято верим в то, что знаем – / Огонь и лед. / А может, будешь ты чужая / Наоборот. / Два голоса на вертикалях / Не врозь, а связь. / Пусть не получится, сверкая / Уйдем смеясь. / Но нить тонка и связь непрочна / В людской толпе, / Сожмемся в атом, будем – точность / В одной строке. / Мы не расстанемся, расстаем, / Уйдем с луной / И на прощанье прочитаем: / «Мне нравится, что вы больны не мной». В его архиве вместе с огромной пачкой рукописных стихов обнаружились три затрепанных-зачитанных пресс-релиза Н. Сучковой, самой известной вологодской поэтессы из молодых. Был ли он фанатом Сучковой, не знаю, но сталкиваясь с нею в гостях или на концертах, он вряд ли помнил, что это именно она, не узнавал. Из его посвящения Сучковой: «Уходящие в строфы звонкие вырождаются – / Ведь осенние ночи поутру начинаются… / Лето кончилось, вот и осень уже кончается, / Что-то робкое и несмелое подбирается. / А листва под ногами стелется, будто спящая, / Будто не было, будто сгинули, / Приходящие – уходящие…»
5 октября 2001-го. Когда кончался век ХХ
Когда кончался ХХ век, мы задавали друг другу вопрос: «Какой будет культура нового века?» Одни говорили: искусство будет еще более сложным, другие – всё и так слишком усложнено, наоборот, скоро придет пора самых простых человеческих ценностей. Одни говорили: в технократический век мы нуждаемся в капельке тепла, а другие твердили, что только интеллект приведет человека к новым высотам. Разброс наших мнений, ернических и серьезных, хорошо отражен в сборнике «Культурный герой ХХI века». А Наугольный тогда сказал: «Если культура вообще будет». Сегодня он говорит: «Ради чего ломали копья? Нет ее, культуры, нет литературы, чье влияние на мир ничтожно. Никто ничего не читает, во-первых. Смотрю на толпу упившейся пивом молодежи, День города, конечно, что им еще делать – только пьяной толпой ходить… Бить друг друга, уродовать. Это чернь. Она не способна понять». – Наугольный говорит с такими нервами, что я пугаюсь. А сами-то мы кто, не чернь, что ли? Но ты же сам говорил: «Водка – это красота, чистота, благородство… Мудрость!» Говорил? И пил. Я напоминаю Наугольному его же афоризм.
– Нет, я свое выпил. Просто Венечка Ерофеев и Липскеров с Павловым не могут на одной полке стоять.
– Ну и почему? Занятно, затейливо.
– Мне нравится Липскеров, который здесь и сейчас, а Ерофеев – это прошлое.
– Кроме того, зачем ты классифицируешь?
– Затейливое – не вечное. Холодное, путаное, не притянет. Татьяну Толстую провозгласили лучшей, по радио будут читать. Как же. Десять лет назад это было бы – да. А теперь это – так… Словеса. А славят. А ведь еще хуже делают. Отталкивают людей, кому еще не противно, кто еще верит. Вообще никого не останется.
– Но Павлов? Это страшная правда о нашем времени. Ему тоже не веришь?
– Да что Павлов! Это хроникер, публицист. Работает ради денег. Ради комфорта.
– Кто же не любит комфорт? Чтобы нормально жить, чтобы всё было.
– Я с тоской обозреваю свою бедную заброшенную комнату. Кресла старые, диван еле держится, обоям лет десять… Да не надо мне, чтобы всё было. У меня знакомая как поговорит с матерью, как та настроит ее самолюбие, так знакомая хватается за кошелек, деньги бросается зарабатывать, ни-че-го не понимает. А сама – не такая. Как с матерью не говорит – так высокое разумеет. Меня вызвали на семинар, кусок мне бросили, чтобы я уже не был свободен… Чтобы, что хочу, не говорил… – накаляет Наугольный телефонную трубку.
– Неправда, никто тебе не мешает. Ни к чему не обязывает. Говори ты что хочешь, специально тебя в Москву зовут, чтобы ты с подобными себе поговорил. Да еще, может, в журнале каком напечатают. Что ты всё наизнанку выворачиваешь. Когда меня в Москву звали, я ехала с огромным любопытством. Тем более что это быстро кончилось…
– А откажусь и не поеду. Назло. Не хочу быть обязанным, – гневается Наугольный. – И так свободы нет, а они еще больше перекрывают!
– Насчет брошенных кусков – это было, да и в «Графоманке» я про это писала, помнишь главу «Как их только не разорвет»? А где еще свободу тебе перекрыли? Сиди, пиши… только пиши. Чтоб этот вопль души не в телефон, а как-то письменно. Например, об этом социуме, который никогда ничего не поймет. Но это же не твое дело, твое дело – писать… Если можешь… Я вспоминаю, как занималась литературной пропагандой, и меня прозвали «культмассовым сектором вологодской литературы».
– Вот, писать! А зачем, если выхода к читателю нет? Архипов прав: у нас резервация («Резервация» – название книги Архипова). Вас загнали в ваше Лито в пятнадцать человек – вот и сидите. Вот вам все ваши границы!
– Ну и что? – Я грустно замолкаю. – Я поняла, что не состоялась. И отношусь к этому спокойно. Ладно, хоть мы с тобой говорим…