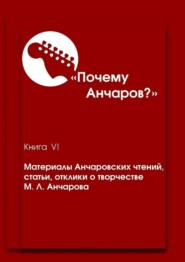По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Начистоту. Книга писем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поэтому зря и сравниваю, разные весовые категории, потому что категорические императивы разные, потому что родины и веры разные, потому что сравнивать С. Саканского необходимо с Умберто Эко и его «Маятником Фуко», а также с Артуро Пересом-Реверте и романом его «Клуб Дюма, или Тень Ришелье». Там он обитает, там его вотчина, логово и лежбище… Синкретизм культуры, современной культуры, реальность полного отсутствия, породил идиотизм самореализации и самооценок. Кто поумнее и поироничнее, тот спасен будет. Именно отсюда постоянный диалог с самим собой, особого рода литературная шизофрения… Бога нет, ума мало, а о смысле Вселенной и о музыке сфер поговорить ой как хочется, вот и выходит сплошная Касталия и утомительная по своей скрупулезности игра в бисер. Зато у них всё есть, как при коммунизме. И сюжеты, и интриги, и пласты, будто на рынке. Хотя почему будто, обидно даже… Рыночные ценности, условные единицы, ложные ходы, поторговаться-то хочется! Вот вся суть… Культура рынка и рыночная литература. А стиль? Какой такой стиль? Стиль – после Освенцима – невозможен, оттого и стилистов нет.
Дневник писателя 2 апреля 2002-го.
Еще б на русском языке!
Однажды пришел Наугольный и сказал, что тему про армию надо закрывать. Хватит уже! И тут же приносит рассказ опять про армию. Я прочитала и говорю: да ты всю жизнь будешь писать про армию, ты обречен. Он снова: закрою тему. И так уже три рассказа, один страшней другого.
И тут приходит диплом Артиады из Москвы, дали Наугольному за книгу «ПМ». Ему еще кличку дали – АН-ПМ (Андрей Наугольный, «Пистолет Макарова»). Я хватаю рассказ – и к редактору. А он почитал-почитал и, не сказав мне ничего, молча – к вышестоящему шефу, который вообще не вникает в журнал. Я ничего не знала. Вдруг смотрю, на моем столе рассказ Наугольного и ужасная резолюция шефа. Я ее приведу. «Рассказ написан абсолютно недоступным мне языком, даже понять суть трудно, о его литературных качествах судить не берусь, однако правда в нем есть. И если бы он еще был написан на русском языке, его обязательно стоило бы опубликовать. А так решайте сами».
Ну редактор так и решает: когда хочет, то ставит, а когда не хочет, то спихивает на шефа. Я смотрела на эту резолюцию и заливалась краской. Значит, не по-русски. Значит, комитет Артиады этого не понял, и я, раз эту книжку делала, тоже не поняла. Тем самым редактор указывал мне на мое место, мне – скромному члену писательского союза.
Я вдруг схватила толстые листы и порвала их что было силы. Гнев мой был страшен. Я клянусь, что ничего не видела перед собой. Правда! Она не виновата! Через несколько минут меня вызвали к шефу и попросили вернуть документ. Я сказала: его больше нет! И тогда шеф стал учить меня жить. Он потребовал, чтоб я всё склеила. Я долго смотрела и дрожала. Потом долго склеивала. Детям-то надо ведь еду на что-то покупать. Я была почти без сознания. Мне вернули документ и велели положить в папку входящих, чтобы я всегда смотрела. И помнила. Я сказала: «Господи, я так разочарована. Если бы вы хотели поговорить со мной о литературе, так я бы с удовольствием. Но теперь вижу, что больше такой возможности не будет». Я была красная как рак. Задыхалась даже. Понятно, никто из участников интермедии и не думал ни о какой литературе. Да черт с ней! И этот рассказ я посылаю сегодня Саканскому. Чтобы и Саканский, и все понимали, где мы живем.
Дневник писателя 2 марта 2002-го.
Не надо песен
Познакомилась в Интернете с Ракитской. Пришла к ней домой, пригласила в Вологду. Мне так нравится процесс материализации! Как будто волшебство наяву. Не понимаю, как Саканский общается с ней только по И-нету три года… Но я – другое дело. Я и Саканского бы материализовала, и Яшку Каzанову, и еще кое-кого, будь на то обоюдное согласие. Наверно, вечера сетевой литературы придуманы для меня, только в Москву и Питер не всегда могу вырваться… Что меня толкнуло? Стихи, конечно. Мне казалось, я смогу ее убедить, что среди 150 выпущенных ею авторов она не самый крайний. Хотела получить ее книгу из ее рук, и чтобы она сказала мне обо мне.
Ничего не вышло. Ракитская совершенно загадочный человек. Я думала, она пламенная революционерка с горящими глазами, а она вкрадчивая, с низким прокуренным голосом, с блуждающей полуулыбкой, мягкая такая, ускользающая. У нас сорвалась первая встреча из-за выборов, Дом культуры закрыли, у них ребенок заболел, перенесли всё! Но потом… Когда я встала в полпятого утра, поставила тесто на блины и пошла на вокзал, мне было весело, как в детстве. И вот этот базар на кухне. «Бабы, помолчите!» – бросил ее муж Богатых, и неторопливое хождение к памятнику Рубцову, а потом по ул. Яшина – Анатолий раньше жил здесь, – всё это еще было не время. Я удивлялась: перестаньте говорить о деле. А они всё о деле, о деле, им хотелось выпускать миниатюрную книжку, они с Володей говорили только об этом… Но для меня было еще не время. Я думала, вот погодите! Я спою вам ракитский «Аленький цветочек», подарю алую розу, тогда заметите.
Встреча с Лито – дикая, дичайшая. Я раздала много распечаток, но те, кому раздала, не пришли. Пришли те, кто не читал. Ладно, Ракитская сама читала. Народ глядел, безмолвствовал. С ума сошли? Все так же, как и с Арбатовой, молчали, как парализованные. Меня вдруг поразило, что она пишет о бесполезности литературы – вот это, чтобы меня не помнили, считали мифом, и про поэтов, которые читают вкруг, не слышат. Я испугалась, стала спрашивать. А Паша Тимофеев сидит такой красный, пьет пиво и говорит, что «размер стиха, как у Башлачёва». Редактор мой пришел! Затрагивал политические аналогии. Но в целом Эвелина интересней говорила про себя и про издания, чем про стихи. Анатолий вообще не соизволил читать, представляться. И всё сильнее было ощущение, что им всё пофигу. И все это видели! Потом нас выгнали из кабинета, пришла косметическая фирма. Разговор только начинался! Я пошла ругаться с вахтером, потому что до этого пели под баян, Ракитскую заглушали, потом эти с косметикой. Да, я просила прекратить это безобразие, потом расплакалась, и мне стало не до песен. Ракитская так и не услышала свою-мою песню. Но после Лито можно было пойти ко мне и попеть там. Нет, Анатолий не хотел, а Эвелина, она ведь жена. Я пошла домой в сильном ветродуе, с меня срывало одежду, а они так и не пришли, а на другой день поехали в Кирилловский монастырь. Я была им неинтересна. Ну и правильно. Книгу я не заказала, хотя у меня столько рукописей. Денег-то нет, обстановка нищая, шапка старая. Видно всё как на ладони. Что водиться с побирушкой! Я хотела дать ей вязаную шапку, ведь она была в газовой косыночке, ведь север же. Но муж ей сказал, сними, – она сняла. А я смотрела. Я никогда не разбиралась в людях. Никогда. И теперь не умею. Люди стали мне звонить и говорить, что, интересно, я себе вообразила?
Всем понравилась она, но все видели эту натянутость. И в общем шуме мне, оказывается, было стыдно за нас всех, за плохую встречу, а всем моим приятелям, оказывается, было стыдно совсем по другому поводу. Стихи не виноваты, – кричала я, стихи не виноваты! Хотя они и старые… А именно они и виноваты во всем. Но если люди приехали разведать обстановку насчет книжек, чем это плохо? Ничем. Настоящие издатели так и должны делать. Просто всё другое им неинтересно. Песни всякие. Для меня это главное, для них – нет. «Ты ради песни их звала? Ну и дура», – сказали мне.
В ней, Эвелине Ракитской, понимаете, в ней какая-то ртуть перекатывается. И она не отделяется шариками и не проскальзывает наружу, просто видно через черные глаза, как она внутри, тяжелая, блескучая, взрывная, сдавлена. И это, конечно, самодостаточный человек. Если бы она хотела поговорить, она бы поговорила со мной, подбитой такой, с гитарой в старом поцарапанном чехле. Эта ее мысль насчет невозможности переделать «Аленький цветочек», хоть как правь. И с глагольными рифмами будет, будет комок за горло хватать. А насчет песен что ж. Как говорит критик Фаустов, не надо нам устраивать стандарт самодеятельности.
16:20, 2 марта
Дневник писателя 16 апреля 2002-го. Швыдкой сошел с ума
Была на презентации книги лесного человека Саши Дудкина в Кадуе Вологодской области. Этот такое место всё в горках и соснах, такая маленькая Швейцария с озерами. Люди! Какой самородок Саша этот. Глаза карие, добрые, очкарик, голос низкий, нежный, башка умнейшая, философ! Себя не ценит, ненавидит. Одно название книги чего стоит! «Блуждание как блуд». Стал говорить – спина, как землетрясение, пот ручьем. Даже не видит, с какой любовью смотрят на него коллеги из лесхоза, библиотекари, учителя, продавцы, следователи – все, кто пришел на встречу. Скромный слишком. Московский поэт Марк Шатуновский о нем сказал: «Люблю Дудкина за то, что его стихи находятся на пересечении интимного и глобального…»
Саша Дудкин лесничий, ему 36 всего. У него самый кошмар в работе летом, когда беснуются пожары. У него в хозяйстве 30 тыс. кв. км на 8 лесников. Сейчас, «отбыв повинность» в районной библиотеке, он поехал сажать сосны. И еще минимум пять человек могут сделать по книге. Но их даже не печатает Рыбин в районной газете, что говорить. Какие забитые, неухоженные они, ужас. И администрация зачем-то гнобит их, не помогает, и газете плевать, и питерские писатели приехали, растоптали. Ничего не понимаю! Столько народу пишет, у меня голова гудит – и проза, и детская проза у Гусевой, и проза у Шариной, и такая жесткая проза у Дешина, и поэтов столько, Кузьмин книжку сделал, детское Лито такое большое, я всё им рассказала про «Илья-Премию», чтоб молодежь толкали. При этом Швыдкой по ТВ говорит о смерти литературы… Ну, ладно, что его шоуменом обзывают, но такое говорить мне, когда я во всех районах вижу типичную картину такого стихийного обилия авторов, жанров… Не может, не может быть всё пустое. Скорее, у нашего мэтра пустое, с его онанистами и стебом бесконечным… (об этом отдельно). А Швыдкой точно сошел с ума. Пора ему уволиться по собственному желанию, уйти от позора. Мое недоумение – как море.
Дневник писателя 4 апреля 2002 года.
Без слов!
Приходила Татьяна Петровна Сопина. Говорила, как она ценит Ракитскую, вообще – очень. Но не могла на встречу прийти, мужу было плохо. Кузнецова, которая читала взахлеб эровскую Василькову и сама хочет издаться, не пришла, заболела. Человек, с которым я ношусь как с писаной торбой, Наугольный: когда я стала звонить про Ракитскую, бросил трубку. А ведь зачитывался ее стихами. Кузнецов, изряднейший поэт, не пришел. Волкова, которая хотела взять интервью для радио, не пришла. Новоселова, которая ведет литературные экскурсии по Вологде и делает это вдохновенно, не пришла. Коротина, которая… тоже не пришла. Короче, болото. Нет слов.
Дневник писателя 16 мая 2002-го.
Вокруг Ильи.. Реакция на звук
Натке в Москве нужен компьютер, мы везли, помогали ей. В поезде мне казалось, что монитор, зависший на третьей полке, движется и валится на меня. Люба даже не спала, дежурила ночь на вокзале, чтобы встретить и помочь. На эскалаторе две тетки впереди опрокинули сумку на колесах, и всё это повалилось на меня. Я держала сумку с процессором и коленкой придерживала лавину, глядя, как тряпки падают на ступеньки… Меня заколотило от ужаса и долго колотило потом. Потом Юшковой не заказали гостиницу – тоже нервы. Потом стало мутить и качать, нервничать мне теперь нельзя. Боюсь Москвы! Хорошее началось с голоса Юрия Беликова в трубке. Что за голос! Чарующий рокот, точно у хорошего актера, он обволакивает и гладит до щекота в горле. А уж как начал потом стихи читать… Вообще конец! Думаю, он знает и умеет пользоваться… Я этот голос без конца бы слушала. Всякие тайные бездны, фантазии… Когда-то Михалыч умел очаровывать так же. Но я сама виновата, что больше он не рокочет.
На вокзале группа «Илья-вят» уже ждала нас, Антон Чёрный, наш вологодский финалист «Илья-премии», кинулся навстречу. Все поехали в Переделкино. Мне поначалу было тоскливо среди этих детей, но Ира Медведева – она покорила и приняла сразу. Приблизившись, я поняла: мы с ней сто лет знакомы. Седая асимметричная стрижечка, черные мягкие глаза. Кажется, Ира умеет находить моментальный контакт со всеми…
Почему я рвалась в Дом Пастернака? Я же была там, не умея справиться с потоком слез от плаща, напоминающего папин, от стоячей конторки. Я убеждалась, что это всё на месте, как убеждаюсь в нерушимости того, что есть дома… Кудимова: «Убедилась?» – «Да!» Но сильнее – резкий голос экскурсовода. «Тогда уже Зинаида сказала, может более быть женой, тогда уже появилась Ивинская… Мое мнение – он любил многих, а она дает понять, что она была единственная, расталкивает локтями. Ее не пускали сюда, даже когда он умирал…» Удивление. Но меня поправляют – она кого-то предала, дело не в романе. Не хватало звука – ПОЧЕМУ НИКОГДА НЕ ЗВУЧИТ РОЯЛЬ НЕЙГАУЗА? Но более сильное, обвальное удивление – в Доме Чуковского. Оказывается, «Чукоккала» – это что-то вроде нашей полуподпольной «Стрекозы». И не такой уж он детский, просто «Крокодила» запрещали, а книга о Некрасове спасла, Сталинская премия. Мантии, картины, шкатулки – дом, полный подарков и чудес. Голос экскурсовода – озорной, смешливый – «знаю, что вы устали, я с вами, как с ребятами». И мы, остолбенев, смотрели, как прыгает по лестнице сакраментальная пружинка. Сколько людей здесь прошло, какой огромный мир кружился вокруг планетки Чуковского. Его культурное пространство было гигантским. Местами я засыпала на ходу от потока впечатлений, но они все вливались в меня, и я снова таращила глаза. И сосны клонились ко мне – а ты маленька-а-я… И Ира Медведева оборачивалась: Галочка… И я не чувствовала, что я одна. Ленка Юшкова что-то снимала, снимала фотоаппаратом, а я гулкая, одуревшая. Р-ррр. Голос Беликова? А где Наташа? Она не может, занята. А зря. Она кое-что упустила. Впрочем… На пионерской поляне, где Чуковский делал костры, мы уселись на пикник. Там длинные разговоры, стихи, невозможная легендарная Кудимова. Я с Кудимовой чокнулась? Деликатесы – колбасы, куры, листовой сыр, фрукты, вино по 115 рэ бутылка. Бешеные вкусности. Резала бутеры с Олей Юрловой из Кирова. Как было странно – почему мы здесь? Потому что мы вокруг планетки Илюши вращаемся, мы втянулись в эту орбиту. Миллионы голосов зазвучали во мне. Тех, что были раньше у Чуковского, тех, кто на кладбище, и тех, что теперь приехали к Илье. Ира и Коля сделали из своего горя чужую радость… Поэты такие вредные, и если что-то их объединяет… А я раньше думала, ничто их не объединяет! Но вот же! Коля Тюрин, видимо, не пьет вина, но здесь позволил и настоял везти к гостинице на такси. Ира только вздыхала. На станциях стали дикие законы, пускают по одному. Всё это было каким-то домашним, как будто я приехала к родне. Но я их вижу в первый раз! Непонятно. В гостинице Иру отчитывали – у вас долг три тысячи. Но с Юшковой всё уладилось. Я пыталась спать и не могла. Кто-то рокотал, рокотал. Когда Кудимова хотела посылать еще за бутылкой, поднялась буря, и деревья затрещали. «Нет, не пойдем за бутылкой». Вот в церковь они шли – это надо. А тревожить по пустякам нельзя. Звуковая стихия продолжала шуметь и трещать в моей голове всю ночь. Я объелась – всем. Потом тяжелые литературные беседы с Ленкой – про это отдельно.
Дневник писателя 20 мая 2002-го.
Нелюбовь к себе?
Из ответа на письмо Ракитской о феминизме. «Дорогая Эвелина! Совсем не хочется спорить с вами, но ваше мнение – от незнания. Феминизм – это не самоутверждение, это помощь другим. Видный теоретик феминизма в Вологде С. Фаустов так и говорит, что феминизм – форма гуманизма. Или, например: „Феминизм – это свобода срывания фартука“. Моя подруга тоже не любит феминисток за то, что они якобы уходят от домашнего труда. Но это тоже от незнания. (Феминистки не отказываются мыть посуду, они предпочитают делать это не в одиночку, а с другими едоками). Всё привычка видеть в феминистках монстров. Но ведь Маша Арбатова не монстр. Вы не представляете, как я ее люблю, и как точно она формулирует многие скользкие вещи. Когда я стала расспрашивать ее, как быть с сыном, у которого все девушки явно старше его, она весело посоветовала найти любовника. (В этом смысле видите, опять мужчина не самоцель). Мы с С. Фаустовым делали в газету материал „Призрак феминизма бродит по Вологде“. Я опрашивала знакомых, а Фаустов писал всякие шутейные афоризмы… Феминистки чаще всего – счастливые и успешные женщины, а не злобные и несчастные. Нелюбовь к себе – это драма более глубокая. Как термометр, она показывает прежде всего этическую незрелость человека. А еще – недолюбленность. Женщина, которую любят, естественно, хорошо относится к себе. Именно и стала феминисткой, когда почувствовала, как меня любят. Хорош и такой способ. Знакомый психолог, еще когда я работала на заводе, заставлял меня писать в столбик свои плюсы и минусы. У меня выработалась привычка видеть в себе хорошее. Хоть сейчас! Минусы: несобранность, слабоволие, чрезмерная внушаемость, отчаянная неряшливость, обжорство, сквернословие, непочитание старших, грехи перед Богом, вина перед детьми, привычка гневаться, грешить… Плюсы: готовность жертвовать, слышать чужую боль, доброта, влюбчивость, доверчивость, способность плакать от музыки и стихов, творческие способности, равнодушие к деньгам. Конечно, список всё время меняется, как и лицо мое меняется, стареет. Но даже глядя на себя в зеркало и грустно вздыхая, я совершенно искренно говорю: я уникальное существо, других таких нет. Мне скоро пятьдесят, но я еще ничего, еще можно влюбиться, интересная ведь женщина. А как распоюсь в мягкий зимний вечер, так и все тридцать мне дашь!»
Дневник писателя 17 мая 2002-го. Откуда взялась «Илья-премия» (для тех, кто не знает), которая работает уже два года!
«…Оставьте росчерк – и оставьте Свет. Но не гасите света…»
Эти строки написал 19-летний московский поэт Илья Тюрин, трагически погибший в августе 1999 года. Его талант не оставил равнодушными никого из тех, кто прочитал в «Литературной газете» его последнюю статью «Русский характер», написанную за десять дней до гибели, а затем и сборник стихов, песен, эссе «Письмо», вышедший в 2000 году в издательстве «Художественная литература». В память об Илье друзьями и близкими поэта учреждена ежегодная премия в области литературы (стихи, эссе) – «ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ».
Положение о Премии
1. Премия памяти Ильи Тюрина – «ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ» – учреждается в качестве ежегодной благотворительной акции, целью которой является (наряду с пропагандой творчества Ильи Тюрина) помощь человеку с ярко проявившимся литературным даром на старте его творческой деятельности. Учредители премии полагают, что наиболее целесообразным шагом в этом направлении должно быть издание первой книги номинанта – победителя в конкурсе. 2. Механизмом отбора литературных произведений является конкурс, о котором учредители премии оповещают через средства массовой информации. Для оценки поданных на конкурс работ учредителями премии формируется специальное жюри из известных деятелей культуры. 3. В конкурсе участвуют только рукописи: подборка стихов, эссе. 4. Возраст участников конкурса не ограничивается, но при прочих равных условиях предпочтение отдается более молодому претенденту. 5. В ходе конкурса награждается незаурядное дарование в области поэзии и эссеистики, выраженное в очевидном стремлении к выработке синтетического языка, к творчеству на стыке жанров, к поиску новых форм организации литературного пространства, как наиболее ожидаемых на рубеже тысячелетий. 6. По результатам конкурса учредителями премии заключается с издательством договор об издании книги победителя. 7. Финалисты конкурса получают специальные дипломы, памятные сувениры и становятся авторами альманаха «ИЛЬЯ», работа над которым начинается уже осенью 2001 года.
Жюри конкурса: Марина Кудимова – председатель, Юрий Кублановский, Александр Иванченко, Юрий Беликов (Пермь), Валентин Курбатов (Псков), Анатолий Львов (СПб), Ирина Медведева, Николай Тюрин. Рукописи принимаются ежегодно с 1 октября по 31 марта. 10 мая – Торжественная церемония вручения «ИЛЬЯ-ПРЕМИИ».
Адреса, по которым можно направлять рукописи: 1. 125993, ГСП-3, Москва, ул. «Правды», 24, редакция газеты «Трибуна» 2. E-mail: ilyadom@russ.ru
Дневник писателя Вокруг Ильи
В Переделкино, когда все читали стихи, мне было неловко, ведь я не поэт в той мере, в какой там присутствовали лауреаты конкурса «Илья-премия». Но когда я читала его книжку «Письмо», мне бросились в глаза две важные вещи. Первое – осязаемость потери самого Ильи, когда не стало Бродского. Это не просто скорбь («скорбь» – это мертвое слово), а именно увеличение любви, ее непомерность. Такое впечатление, что, проплакавшись, он как-то ближе и крупнее увидел Бродского. Бедный, что он пережил, лишившись!.. В этом любовном поле в высоком смысле слова Илья не «послебродский», а именно «бродский» поэт, остающийся в Бродском навсегда. Это как бы духовный ребенок Бродского. И вторая вещь. Там есть стихи, которые он посвятил физику на его уход. И мне стало ясно, что я чувствую то же! И лучше Ильи никто вслед самому Илье не скажет, что именно я чувствую. Я прочла этот стих в Переделкино (кажется, он на 102 странице – книги опять нет под рукой, ее опять читают).
То есть что? Занимаясь поиском поэтов, я не очень вникала в смысл текстов Ильи. И тут вдруг меня поразило как громом. Его связь с другими людьми означает, что он, помимо своего творчества, проводник для нас и для тех, других. Например, я через Илью всегда буду чувствовать еще и Бродского. Он как тот телефонист, который держал зубами провод с током… Я этим вовсе не хочу сказать, что он какой-то опереточный герой. Нет, просто он теперь для меня больше, чем просто автор своих стихов. И даже вздрогнула: я писала стих для Миши Жаравина, а теперь произношу его для Ильи, значит, есть связующая ниточка меж ними тоже. Ходила по Переделкинскому кладбищу, а где похоронен Илюшка, так и не спросила… Тело возьмет земля, / Душу возьмет Господь. / Голос молитвы для / взлета небесный свод. / Не торопись уйти, / Холод могил кляня. / Я запою мотив, / чтобы нас не разнять / шепоту сосен над / мраморным забытьем. / Как много лет назад, / мы помолчим вдвоем. / Тело возьмет земля, / Душу зовет Господь / век его умолять / царствовать над и под…
Дневник писателя 21 мая 2002-го.
Страх сомнений
Вечером я позвонила по номеру мобильника, оставленному для меня в гостинице – наверно, это была Ракитская. Но мобильник не ответил. Что было делать? Звонить ей на телефон домой? Но там ее муж, который ненавидит. Ее, меня, какая разница… Мне хотелось с ней поговорить, но так, чтобы его не было. Но как?
На другой день после Переделкино у нас Леной Юшковой были грустные разговоры. Вся эта атмосфера подействовала на нас размягчающе. Ласковое обращение Иры и Николая, но его как бы нечем оправдать. Ира хочет более творческого конкурса, она не против стихов, но роль эссе пока недостаточна. Возможно, это будут отклики, споры с самим Ильей по любому тезису его статей? Возможно, еще что-то, например, прибавится номинация по драме.
Всё это хорошо, но я сама только собиратель, а хотелось бы как-то поучаствовать в развитии самой идеи. Как? Юшкова сказала наконец, что ее расстроило Переделкино. Сначала на нее косо посмотрела Кудимова, потом показалось, что она вообще тут не к месту, тут все дети малые, а мы в таком возрасте, что… Но главное не в этом. Главное в том, что она не хочет делать книгу, которую я начала делать. Я уверена, что это очень состоятельно с литературной точки зрения. А Лена то подчиняется моему диктату, то говорит – не нравится! Не нравится мне эта вся так называемая проза. Выходит, я ее принуждаю? Мне стало горько до невозможности. Мало того! Она давно пишет мудреную диссертацию о пластическом театре. Она говорит, литература никому не нужна, а здесь я почти совершила открытие. Это будет преступление, если всё это не зафиксировать! Поэтому я займусь пока наукой, а уж потом посмотрю, как быть с прозой… «Хотя у меня совершенно не идет диссертация, я прячусь от компа, я вообще-то человек литературный…» И через час уже говорит: «Мне удобно так жить. Если посылают на компьютерную конференцию, то еду, если надо быть научной – могу и так, если меня позвали на литературный праздник – не могу согласиться, что это плохо. Это здорово…» Я чуть не заревела от таких речей. Значит, ей всё равно, чем заниматься! Ей нравится писать прозу, а она насильно себя гробит. Я задумалась. Может, она и права. Чем меня восхитило Переделкино? Тем, что там были все свои. Может, это от вина? Нет, мы, когда приехали, мы тогда еще не пили никакого вина. Но откуда тогда это чувство общности? Оно было. Антон Чёрный – его видеть было еще радостней, чем в Вологде. Он смеялся: «Сидеть бы нам в Твери, когда б не Галя…» Но как раз моей заслуги в том и нет. Это Ира. Это Илюша. Это все, к которым упала и я, как капля в блюдечко. Там обнаружились еще потрясные ребята, к которым я вернусь!
Значит, Юшкова всё структурирует (поганое словечко). У нее душа лежит к одному, а она заставляет себя делать другое. А что я же я? Зачем взяла и сразу, с ходу во всё это ворвалась, душой присохла? Я же неталантливый человек. Хоть бы подумала чуть, а то сразу. Мой длинный разговор с Василенко по телефону: я объясняла ей, почему надо рассмотреть дело Дубинина. Василенко болела, и голос ее слабел в трубке. Она сказала, что ей надоело разбираться с Вологдой. Я говорю, а что там разбираться? Т.Т. делает свое, я свое, я никому не мешаю править миром. Но Василенко явно думает про меня какую-то гадость. Она разлюбила меня. Такого уж не было, как раньше: «Дорогая Галя! Я счастлива, что…» Она не разрешила к ней приехать, велела везти папку а ЦДЛ, а там… Там не оказалось никакой дежурной в праздники 10 мая, стояли два пьянющих охранника, еле ворочая языком: «Пойдите позвоните». А зачем звонить? Кому? Больной Свете Василенко? Я и так ее донимала по телефону целый час. Это стыдно же вообще так приставать, тем более человеку и так плохо. Бесполезно. Мне стало обидно за талантливого Дубинина, и я увезла папку домой, а потом отправила ее по почте… Правда, я с помощью Шеварова кое-как дозвонилась до Ольги Корф, и она сказала: «Никакого движения с вашей рукописью не предвидится. Она у редактора „Черной курицы“, издавать ее никто не будет». Ненавижу Москву.
***
И еще одно событие, уже совсем мелкое. Поехала к знакомым повидаться, хотя боялась заблудиться в метро. И поскольку душа моя была полна всем тем, что изложила выше, я к духу Переделкино стремилась, без умолку от этом говорила, взахлеб и отвлекаясь на оценки… И жадно на реакцию смотрела. Но мне сказали, что всё это скучно, что люди и тусовки надоели, и коль я человек тусовки, то что ж, ходи-ходи… Потом сказали: от тебя башка болит, довольно. Я остолбенела. Я человек тусовки? Я одинокая как черт-те знает кто! Сюда людей тащила для того, чтоб вышли из пещеры, всех узнали… Ведь нету у меня здесь шкурных интересов! Такое испытала унижение. (Я помню аналогию: Воронеж, у сестры. У маленького вши от поезда… Такой переполох… Дележ наследства, перебранки, на пляж идти нельзя, купальник страшный. Зачем я всё прошу, самой не заработать? И после этого из дома выгоняют – меня с детишками, на вечер глядя. Вот что я вспомнила!)
В метро момент: хотела выйти из вагона, рискуя потеряться капитально. Затмение нашло. Понятно, больше никогда к ним не поеду. Но всё это случилось перед Домом журналиста, поэтому на сцене выступление получилось отвратительным. Горели губы, рот, как будто дали перцу. Да, я же не умею разбираться в людях! Мне нужно было душу изливать не этим, а хоть Ире или Коле, но я пристала словно нищенка – к чужим. А вот Ракитская, наверно, поняла бы. В горячке дикой горечи не очень веселилась на фуршете. Была Наташка – с ней не говорила. Пришла на встречу Маша из агентства, что занимается судьбой «Горящей рукописи» – это было классно. Хотя б надежда есть.
***
А что презентовали? Чудесный альманах! Весь дорогой, весь толстый, как купчина. Трехсотстраничный. И молодежь стихи свои читала, и совершенно тихая Ирина работала исправно Дедом Морозом. Мне говорили, что незадолго до этого случился с ней сердечный приступ. Вот так держаться надо! А я раскисла, точно истеричка! Гриша Сахаров, конечно, лучше всех, и Ваня Клиновой, Чечеткин Паша тоже: «Ах, зачем я красивый такой». Аня и Паша получили Гран-при, они замерли у королевского кресла, а на сцене играли скрипки. Организация прекрасная, ошеломительная. И праздник удался. Ольга Татаринова – мне: «Я поздравляю вас, у вас такие дети…» Вот тут уже было лишку, я только вздохнула: я здесь ни при чем. Это просто Кудимова пошутила: еще, мол, один сюрприз от Галины Щекиной. Сюрпризы ладно, а сама Галина кто? А никто.