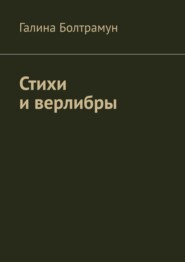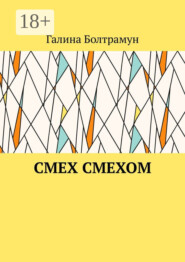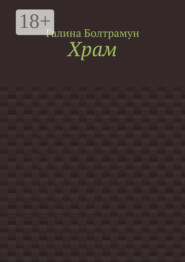По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Эссе. Новеллы. Миниатюры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эссе. Новеллы. Миниатюры
Галина Болтрамун
В книгу включены произведения малой прозы художественно-философской направленности. Эклектика, пересечение жанров. Невольные мысли и вольные интерпретации.
Эссе. Новеллы. Миниатюры
Галина Болтрамун
© Галина Болтрамун, 2018
ISBN 978-5-4490-8095-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЭССЕ
О словесности
В начале было слово. Какое слово? В начале чего? Какие виды ничтожествования и небытия довольствовались собой до начала всех начал? Можно лишь ради забавы рассуждать о безнадзорном хаосе, возникновении космоса и миросозидающих словах – все наши допущения на этот счет не выдерживают даже нашей критики. Мы располагаем лексиконом иного качества, который в свернутом виде дается вместе с рождением, как группа крови, слух, интуиция. Важнейшая функция языка, как утверждают учебники и энциклопедии, – быть средством коммуникации. Очевидно, что подвизаться в общественных учреждениях и быть свободным от общения нельзя. Но является ли это предназначение языка действительно главным? Ответ зависит от взятой точки отсчета, а точки эти могут располагаться в самых неожиданных местах. Для немалой доли тех, кто ежедневно вынужден высказываться в разных тонах и по разным поводам, огромные пласты словесности вне обихода и стандартного образования так и останутся terra incognita. Что теряет индивид, не обладающий способностью заглянуть в иную явь, или, наоборот, что он сохраняет в себе, не поддаваясь сомнительным призывам темной вербальности? Никакие бесспорные выводы не напрашиваются. А споры будут разгораться и гореть синим пламенем до иссякания дара речи на громогласной планете.
Прагматизм, галлюцинации, рациональность и причуды словесности, ее многомерные перспективы и тупики сберегает письменность, в этом многоэтажном и разветвленном хранилище найдется доза бальзама на каждое сердце. Сердца в подавляющем большинстве бьются в унисон с развитием цивилизации, которая периодически затевает ревизию кумиров и приоритетов, окутывает себя сентиментальностью, обрызгивает водами священных рек и вдыхает ароматы летучих мод и поветрий.
Достаточной популярностью пользуются созвучные поступи прогресса повествования, оптимистичные, с прямым и косвенным восхвалением героических стандартов, платонической и плотской любви, с оглашением права битого обстоятельствами персонажа на счастье; сюжеты кочуют из поколения в поколение, обрастая спецификой эпохи, страны, вбирая особенности климатической зоны и политической ситуации. Однако стабильно неувядающую симпатию снискали чисто развлекательные, без сократической подкладки и мусической накидки, жанры, как то: детективы, любовно-приключенческие романы, боевики, сонники, руководства по отворотам-приворотам, анекдотическая по своей убогости мистика и т. п. Такие массовые проекты отменно играют свою роль в деле воспитания расторопного общества потребления. Пусть себе играют; видимо, без этой шарманки оркестр словесности был бы не полон.
На отдельной ступени располагается высокохудожественная изящная литература, вскормленная музами и сеющая на неблагодарной почве «разумное, доброе, вечное», и доблестное, и романтическое. Благородство, яркие вспышки правдолюбия, жертвенность во имя идеала, стоическое мужество – все это вызывает уважение, а иногда и восхищение. Жаром своей творческой температуры писатель воспламеняет героев-светочей, чающих разбавить темень неприглядного быта и подчас безвременно и эффектно гибнущих на перекрестках мечты и суеты сует. Эта словесность любит восходы и закаты; приникшие к ландшафтам руины не пронизаны жилами скепсиса, не имеют запаха всечеловеческой катастрофы, они напитаны серебристой грустью и медленно выветриваются на фундаментах, гипотетически заложенных в золотом веке. Над садами с античными скульптурами и барочными цветниками смутно реют тени невыразимого, но не будоражат опасные залежи подсознания, а вызывают томление о чем-то возвышенном, возможном, но не свершившемся. Некоторых титанических оригиналов удручает неподатливость гравитации, но они не слишком рьяно стучатся в глухие ворота потусторонности, догадываясь, что, вопреки каноническому утверждению, они не откроются. Экстатическая приподнятость не переступает порога, где она могла бы соприкоснуться с безвкусицей, легкая печаль не достигает трагизма, душевный коллапс предотвращается достаточным запасом прочности нервной системы. Такие произведения хорошо читать в юности, когда еще не потеряна окончательно вера в то, что Бог создал человека по образу своему и подобию, а в груди кипит столько энергии, что кажется: ее хватит и на рыцарские подвиги, и на научные открытия, и на освоение туманностей Андромеды, Кастанеды и Парменида.
Особый род письменности – мифология, претендующая на священность своих сур, сутр, панацей и декламаций. Ортодоксальные тексты с годами обрастают внушительным количеством разрозненных комментариев, но всегда являются нерушимой надстройкой гражданского базиса, иногда они видоизменяются или заменяются новыми, но как таковые никогда не исчезнут. Без них нельзя. Почему? Какой силой владеют сказочные по содержанию, не очень складные, местами вопиюще несуразные саги, которые ниже всякого анализа? Обратимся к одному из самых известных мифов, преданию о сотворении Адама и Евы. Зачем именно в райском саду нужно было культивировать одиозное дерево, которое дразнило и возбуждало первых людей и превращало их жизнь в ад? И что это за такой благословенный уголок, где запросто разгуливает злой дух в виде змея и безнаказанно прельщает невинные создания? Почему ему позволено безобразничать во владениях Вседержителя и чем вообще последний мог бы обосновать интересное присутствие не только в его парках, но и во всем мироздании нечистой силы? Кто наделил злосчастную пару волей к познанию добра и зла и ослушанию? Сходные недоумения провоцирует чуть ли не каждый абзац любого мифа. Остается лишь восклицать: «Верую, ибо абсурдно». Непонятно, почему это приписываемое Тертуллиану изречение часто упоминается; оно кажется плоским, не остроумным и перекликается с известным на бывшем советском пространстве афоризмом Ленина «Учение Маркса всесильно, потому что верно», сюда же относится, например, «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Подобного рода «мудрости» производятся в несметном количестве; и что касается мифа, то именно такие «железные доводы» воздвигаются для его защиты, миф и не рассчитывает на хоть сколько-нибудь внятную трактовку, он требует слепой веры и повиновения.
С баснословными поверьями испокон века соседствуют высокие образцы словесности разных видов, пронизанные тоской по истине; но не скрывающие своих противоречий, готовые к самоликвидации продукты сложной душевной деятельности не дерзают назвать себя божественными. А миф в силу своей всесторонней недалекости (вкупе с наглостью?) во всеуслышание заявляет, что он-то и есть подлинное слово Божье, и объявляет монополию на определение богоугодности, праведности и благочестия. Только ли благодаря апломбу и интригующим сюжетам господствует мифология над коллективными представлениями? Трудно судить. Дело обстоит не только так, что миф является порождением незрелого ума, верно и обратное: это миф охватывает сознание и контролирует его деятельность, так что замкнутый микрокосм не подвержен влиянию макромиров и вполне довольствуется войной и примирением домотканых противоположностей. Общественное сознание предрасположено к принятию мифа, тут наблюдается обоюдное тяготение и взаимопроникновение, это любовь на все времена, а о скончании времен не помышляют в царстве идола и кесаря. Типовое просвещение дает исчерпывающие псевдоответы на псевдовопросы, и неунывающие поколения гордо пользуются успехами прогресса, прилаживаясь к солнечному колесу и отдавая посильную дань светилам на мифическом небосклоне. Бывает, что в расцвеченную ткань мертворожденных легенд вплетаются инородные нити бесцветной одушевленности, но они игнорируются народообразующим большинством и находят банальное истолкование у проповедников мифологии. В утешение ревностным приверженцам фантасмагорий с ними, не поступаясь совестью, можно согласиться, когда они утверждают, что их верования инспирированы Богом. Инспирированы. Как и все остальное под звездами. Как смогло бы укорениться нечто, Им не поощряемое?
Ницше любил читать только то, что написано кровью. Так уж повелось на затоптанных и заезженных территориях планеты, что за крещение высью приходится расплачиваться кровью. Создаваемая такими органическими чернилами литература заряжена негуманной семантикой, ее стандартно исполненные абзацы и главы пронизаны импульсами неких дочеловеческих перипетий или сверхчеловеческих комплексов. Она складывается как будто под эгидой надмирных архетипов, проистекает из роковой необеспеченности и выносит на поверхность блики парализующих красот, элементы жуткой гротескной бесцеремонности или символы внепонятийной проблематики. Исходит ли она из преисподней, отвергая устоявшуюся дисциплину, узаконенные масштабы и критерии? Нет. Живописные демоны с величественной осанкой и горящими глазами, равно как и хромые, горбатые черти здесь ни при чем. Тут предугадывается нераздельная первичность, без генеалогии и родственных связей с Архангелом или Люцифером. Эта глобальность крайне безжалостна, имеет в виду только себя и не удостаивает вниманием иждивенцев кислорода, скученных на крохотном осколке тверди и умозаключающих о бытии или небытии Бога на основании эпизодов, разыгрывающихся на вытянутой в окоеме панораме.
Возможен ли диалог абсолютной исконности с 36-градусной болванкой? Вопрос риторический. Тем не менее не все так просто. Непомерное удивление вызывает сам факт наличия смертного, уязвимого и язвительного субъекта в навязанной ему обстановке. Этот субъект, задуманный и сберегаемый для непонятных целей, болезненно ощущает, что он соотносится не только с видимыми и осязаемыми объектами, но и с чем-то еще. В фокусе неизмеримой подспудности индивида бытийствует корпускула, не сводимая ни к физиологии, ни к психике, ни к социальным иллюзиям. Эта корпускула – себе на уме, она не сообщается с другими компонентами личности или даже находится в оппозиции к ним, и именно она тайно перекликается с запредельностью на только им известном наречии. Настают моменты, когда неизученные микроэлементы в подоплеке организма окатывает волна безымянного величия, и у человека захватывает дух (именно дух, не дыхание).
Стремление писателя, вернее, его планида и неотвратимость – запечатлеть вербально приливы и отливы сумеречных настроений, патетику то подспудных, то сверхмерных значений. Желание воплотить невоплотимое никогда не сбудется, из аморфной лавины вдохновения нельзя сгенерировать нечто, воспроизводимое речевым аппаратом, подчиняющееся морфологии и синтаксису. Песня все же каким-то чудом образовывается, и потом из нее хочется выкинуть слово за словом, чтобы обнажить несказанное. Свечи разума трепещут, окунаясь в опасные стихии. Стоят ли эти игры свеч? Или крови? Такой вопрос не возникает перед игроком, а также: чему быть или не быть на кону? Все идет каким-то своим чередом. Те, для кого хоть немного раскрывается содержание написанного кровью, не станут вникать в опусы, начертанные иными жидкостями во имя утилитарного просвещения, интенсивного развращения и коллективного порабощения граждан. Странная доля – сочинять, прикипев к беспрецедентности, тома, где превзошедшая смыслы энергия бродит сквозняками между строк, подсвечивает верхушки букв, завихряет многоточия, а так и не прорвавшаяся наружу весть, расшатав грамматические конструкции, скатывается в бездонные пробелы. Но эта доля не страннее и не страшнее совокупной участи Земли.
Литература (по всей очевидности) создается авторами. Что касается ее коммерческих и популярных видов, то все более или менее ясно и в значительной степени предсказуемо, тут действуют механизмы рынка, законы массового спроса и потребления. Востребованность писателя зависит от его активности, своевременного появления в нужных местах, от вкусовых предпочтений сограждан и деятелей официальной культуры, от усердия рекламных агентов, имиджмейкеров и других специалистов данного поприща. Художественные критерии в данной предпринимательской отрасли приложить не к чему.
А кто есть автор неудобоваримой литературы? Существо, конечно же, экстравагантное, шагающее не в ногу, не попадающее в струю, прозябающее на обочине. О взаимной неприязни творцов метафизических произведений (по убеждению Г. Гессе, подлинный писатель – всегда метафизик) и здравомыслящего населения поведано много. А пристало ли одиноким носителям невнятной интенциальности, которые, будучи белой вороной или паршивой овцой, оскорбляют благообразные стада и стаи, жаловаться на недостаток внимания со стороны ближних своих? Не пристало. Этих ближних они превратили в дальних, игнорируя моменты сермяжных истин, не разделяя державной славы, не лелея прогрессивных надежд и переполняя чашу казенного терпения. И общество должно выказывать благосклонность тому, кто, невежливо отгородившись, разглядывает его сквозь унижающие призмы? И содержать отщепенца материально? Если ситуация складывается так, что «инженер человеческих душ» не в состоянии продать свои нетоварного вида фабрикаты, он не должен роптать, а заработать себе на жизнь иным способом. При неучастии в гонках по служебной лестнице и умеренных притязаниях это не так уж и сложно.
Издавна бытует мнение, что некоторые авторы опережают свой век, что только будущие поколения созреют для того, чтобы оценить их и воздать им должное. Это может быть справедливым по отношению, например, к научным гипотезам, которые лишь через какой-то срок обретут доказательства, подтверждающие гениальные прозрения ученого. У метафизического автора признания не бывает никогда, независимо от того, заговорят ли о нем в каждом университетском углу или забудут окончательно. И не факт, что первое лучше, чем второе, так как все, что оторвано от плоского позитивизма и развертывается в сфере духовности, не может обрести популярность, а если такое случается, то происходит профанация подлинников. Вивекананда, с успехом собиравший в Америке большие аудитории, горько сетовал, что никто из тех, что с пылом ему аплодировали, не изменил ни одной своей привычки. Мода на увлечения скоротечна и неразборчива: сегодня – острые углы кубизма, завтра – круглые лики буддизма, послезавтра – пары парапсихологии (всегда налицо упрощение до уровня пошлости). Каждая эпоха проводит время, подняв на щит лозунги сиюминутностей.
Как правило, не адаптированный к меркантилизму и маниакальности публики сочинитель не заблуждается насчет радужности перспектив для своих эгоцентричных, нелегитимных детищ. Для чего же, вопреки всему, в ущерб личному благосостоянию, нередко и здоровью, компонует он всю жизнь из элементов лексикона нечто, превосходящее словесную материю, зная, что не достигнет идеала? А ни для чего. Произведение – это одна из составляющих автора как человеческой особи наряду с позвоночным столбом, мышечными сокращениями, обменными процессами. Оно выходит наружу, подобно выдоху, не может не выйти, потому что еще до рождения обреченным вещателем был сделан соответствующий вдох.
Такая соотнесенность со «сферами иными» должна была бы триумфально перечеркнуть все волеизъявления и поползновения ёрнической юдоли, ее насмешки и небрежение вкупе с дифирамбами, почетными званиями, лавровыми венками и премиальными банкнотами. Но музыка горних сфер – неотчетлива, постулаты для творчества – тревожны и двусмысленны, а сопряженность с инобытием носит такой характер, что благоговение то и дело перемежается с ужасом. Невнятные темы и мотивы, навеянные анонимным гулом, остаются аморфными и чужеродными. То, что удается зацементировать глаголом, полагает себя как нечто конкретное и таким образом обособляется от своих истоков и функционирует в качестве сгустка финитности, который не забывает, однако, своей достойной генеалогии. Мощная стихия, оторвавшая автора от обычных фундаментов, не предлагает иной опоры, ее посулы смутны и не только неоднозначны, но, кажется, – за порогом всех значений.
Влияние нерыночного творчества на прагматизм хлопотливых будней почти незаметно. Длинные километры страниц посвящены неспособности социума впитать хоть что-нибудь, выходящее за рамки практической пользы, развлекательных мероприятий и удобоваримой мифологии; утратило, дескать, общество чистую религию, духовность, потребность в катарсисе. Горькие изыскания на эту тему часто проницательны и обоснованны, но всегда возникает одно возражение: ничего подобного общество никогда не теряло. По той простой причине, что не имело. Более того, качающаяся между колыбелью и гробом житейщина именно потому и воспроизводится, что строго придерживается своих амплитуд и не попадает в опасный размах духовных стихий. Бюргеры от культуры прилаживаются к кодам эсхатологии и шифрам трансцендентности так, чтобы не нарушить уютной закоснелости, они заботятся о консервации привычного комфорта, добытых привилегий и низводят вещую тьму к нормативам муравейника и обывательскому пафосу. Творческая стихия – разрушительна для любого муравейника. Сенека утверждал: «Свободные искусства не суть благо и нисколько не способствуют добродетели». Да и кто из поборников свободных искусств не делал заявлений в таком ключе?
Словесность подразделяют на роды, виды, жанры и более мелкие разновидности, эта градация – внешняя и второстепенная. По большому счету, есть только два вида письма, условно говоря, – живое и мертвое. В нескольких строфах может отразиться глобальная мировоззренческая проблема с заходящими за горизонт диапазонами, едва уловимая совокупность импульсов и диагнозов метафизики, а объемистый том наукообразного текста, где на каждой странице мусолятся философские термины, может походить на скрип несмазанной телеги. Многие философские диссертации не имеют ничего общего с «рассматриваемым предметом». Посмотреть друг другу в глаза в состоянии лишь те, что находятся на одинаковом уровне, тогда каждый увидит в какой-то мере своего визави даже в том случае, когда взгляд вынужден пересекать бездну.
В обычной практике скрепленная специфичной целостностью доктрина исследуется с каких-то сторон и, будучи объектом анализа, погружается в инородную ментальную среду; в новой обстановке она обрастает новой плотью, потом, став гибридом, вступает в другие связи и снова модифицируется. Таким образом, есть опасность погасить даже мельчайшие блики от ауры первоисточника. Но именно «искра божья» и только она отличает живое произведение от мертвого. Сюжетно-тематические каркасы повестей, теорий или систем не имеют самостоятельного бытия, они неотрывны от своей подсветки; перенесенные на чужую платформу, они перестают быть собой и становятся функциональными деталями иных структур. Только характерное свечение делает творение тем, чем оно является, снабжает его неповторимостью и жалящим очарованием.
Мы храним любимые книги и приникаем к ним вновь и вновь не затем, чтобы освежить в памяти перипетии романа, лейтмотив эссе или необыкновенную заточку научного инструментария (все это давно закрепилось в мозгу), мы возвращаемся на зачитанные страницы, чтобы еще раз отведать тайного (может, и запретного) плода, пропустить через себя магнетизм иноверия или мистической катастрофы, подключиться на какие-то мгновенья к токам надмирности. И вся проницательность лингвистики не выяснит, почему именно такая, а не иная последовательность частей речи генерирует нечто отделяющееся от языковой материи, несказанное. В разорванности передних планов отблескивает волшебство, которое манипулирует автором. Обращается ли к нам не искореженный болестями пращур? Или константа отобранной родины? Или наше будущее?
А что происходит, когда за толкование живого произведения берется тот, кто сам питается от «искры божьей»? Схлестывание огней благоприятно для проливания света на таинственную бездонную мглистость буквенных массивов. Когда, например, Г. Гессе интерпретирует Достоевского, дух торжествует, имплицитность выражает готовность к экспликации. Разбор ситуаций, фабул, камней преткновения, психологических лабиринтов или многогранности ума и морали кажется гениальным. Подобные трактовки интересны и значимы даже сами по себе как самодостаточный акт выражения духовности, они могут быть одинаково притягательными и для почитателя творчества Достоевского, и для того, кто с ним не знаком. Возможно, что последний, потрясенный и воодушевленный анализом одаренного немца, захочет немедленно перенестись в специфичные сферы обитания князя Мышкина или братьев Карамазовых и… будет сражен тем, что оказался на балу иных братий и бестий, на дегустации иной аксиологии. Значит ли это, что Гессе где-то ошибался? На такие вопросы нельзя ответить «да» или «нет».
Большие величины обнаруживают единство, так как отмечены прикосновением Всеединого, они пьют из общего источника вдохновения и обречены на сходство постольку, поскольку подчиняются одухотворенной невыразимости. Но гомогенная кормящая стихия сочетается с личностным своеобразием сочинителя, и в результате он порождает уникальные гибриды, объединяющие универсальность и узкую конкретику. У каждого автора есть клады, хранящиеся не только за семью замками, но и под печатями «совершенно секретно», все из них не вскроет никто даже при наличии глубокого понимания и благоговения. При отсутствии разногласий читатели были бы двойниками авторов и образовывали бы некие пустые множества. Критика любого творения (и благосклонная, и негативная) является в большей или меньшей мере также и его искажением, обусловленным неотвратимой субъективностью исследователя. Гегель предупреждал, что его систему нельзя пересказать другим языком. А Лев Толстой говорил, что если бы его спросили, что он хотел выразить своим романом, то для ответа ему пришлось бы написать этот роман еще раз. Чтобы до конца постичь произведение, надо было бы стать им. Но даже при наличии такой возможности никто не согласился бы превратиться в чужое сочинение, свои иллюзии ближе к телу. Да и к чему это? От смены мировоззрений мир не меняется.
Впрочем, нет ничего плохого в том, чтобы выхватить из неразложимой целостности идею или понравившийся отрывок для анализа, прочувствовать коннотации терминов и понятий, подметить нетривиальность эпитетов, отнести к той или иной категории стиль текста, что-то сопоставить и противопоставить; может, это даже полезно с какой-то стороны, в ходе таких манипуляций не исключено возникновение чего-то самостоятельного, стоящего и талантливого. Правда, часто это похоже на игру. Но – что наша жизнь?
Сгустки, слитки, глыбы и комья языковой материи, различные по весу, качеству, структуре, притягивают и отталкивают друг друга, устраивают пышные парады и претерпевают жестокие коллизии. В дополнение к военным операциям воздух постоянно сотрясают речевые баталии, и остается удивляться, как это еще не сбилось какое-нибудь эфирное масло. Воздух выдержит нагрузку, и бумага, и скрижали, и прочие носители. Только человеческое сердце сжимается под лавиной падших смыслов и просит анестезии. Однако гуманитарные институты усиливают рупоры, и, пока есть порох в пороховницах культуры, мы будем ранить и пытаться убивать друг друга словом, не стремясь к созвучию, видимо, неосознанно полагая, что из множества неправд не сложить правду. А когда ударная волна эвристики разметает остатки отслужившей грамотности, воспрянет та корпускула в душе, которую держал на связи Абсолют. Во что разовьется эта суверенная частица? Если кроме нее от нынешнего Я ничего не останется, то зачем ей нужно было гнездиться в комке бренных волокон?
В начале было слово. Фраза-пустышка, не лишенная привлекательности, не более патетичная и бестолковая, чем «конец света». Бытие не знает концов и начал. Оно есть и ни под каким углом не доступно обозрению смертных. А то, что было в начале бесчисленных процессов становления, – тоже далеко за пределами людского кругозора и понимания; лишь смутные гулы недосягаемой инаковости пробивают атмосферу и чуть слышно сквозят в неприкаянном косноязычии.
В филологии не без успеха циркулирует и такая точка зрения, что нет никаких внетекстуальных, междустрочных смыслов и идей, что устная и письменная речь отражает структуру, субординацию и всю жизнедеятельность общества, а абстрактные изыски, побочные эманации концепций или грезы поэзии – это всего-навсего болезнь языка. Данной тематике можно посвятить несколько томов, они могут оказаться как бездарными, так и потрясающе интересными. Только каков итог? Раскроет кто-нибудь, что есть здоровье языка? Трудно, конечно, заподозрить в хроническом недуге трезвые и дисциплинированные фразы типа «мама мыла раму». Но и вселенским здоровьем здесь не пахнет. Речевые обороты и выверты, обслуживающие каждодневную рутину, – мертвы. А тексты уровня «Упанишад», «Критики чистого разума» живут и болеют. Исцелить их язвы и раны могло бы только прикосновение истины, но она глуха к мольбам и молитвам, ибо все наши молитвы безосновательны (как они могли бы в здешних условиях стать иными?).
Сотканные из предельных напряжений языка, из его казусов и ребусов живые сочинения непримиримо оппонируют публичным тенденциям и акциям, но не противопоставляют им внятных идеалов. Отпущенная на маркировку страниц квота «искры божьей» не увеличится, иначе она сожгла бы все наличные конструкции, которые, видимо, должны исчерпать себя в ином предустановленном порядке.
Во всеобщую парадоксальность действительности хорошо вписывается и тот факт, что сверхидея словесного произведения выказывается нечленораздельно. А что касается его более низких, изобразительных планов, оно может отражать что угодно, иметь стройную композицию или быть откровенно сумбурным, что-то преподносить, защищать или порицать; это по большому счету имеет мало значения, в любом случае все работает на основную идею. Повествования, не высекающие метасодержания, – крайне скучны, утомительно следить за потугами и перипетиями того, что выброшено за борт бытия. А бытие – это непременная и неотменяемая сопряженность с бесконечностью, бессмертием и полнотой божественного знания.
Никаких ориентиров и указателей в обозримом пространстве Вышние Силы не расставили; нет критериев, чтобы определить, куда гонят нас галактические ветры и догматические поветрия: в сторону Сущего или в обратном направлении. Как бы то ни было, движение не замедляется; и с момента первого крика активируются голосовые связки человека, чтобы неустанно трудиться до той минуты, когда он сложит с себя полномочия своей немощи и произнесет последнее слово. Независимо от его формы, точного лексического значения или полной бессмысленности, оно откроет (какое по счету?) начало инобытия или сбросится со всех счетов. Возможно, только несказанное причисляется к неисчислимости. Любые догадки останутся фрагментами вербальности и разделят с ней судьбу по эту сторону добра и зла.
Блеск и нищета философии
Странствующие по владениям самой опасной и притягательной страны – философии – непременно встретят и чудо, и чудовищ; этим путникам – искать единомышленников и находить alter ego, стучаться в звукопоглощающие двери, все больше отворяя себя для инородных проникновений. Философия не наука, М. Хайдеггер определил ей в сестры поэзию, а про науку сказал, что она, возможно, только служанка философии. Философия – это закон притяжения душ вечностью, неуемная жажда духа осуществиться, соотнестись с бытием. Но почему не всем этот закон писан? И почему даже в кругу заболевших истиной нет и не может быть согласия? Каждый на свой страх и риск отправляется в terra incognita, чтобы в одиночку отведать экзотических запретных плодов. Флер запретности до сих пор окутывает стезю познания, а печаль, умножаясь со времен Экклезиаста, все отчаяннее близится к критической величине.
Философское наследие огромно. Несомненно, для того чтобы ощущать разреженную атмосферу отвлеченного знания в общем и целом и вдаваться в детали спекулятивных изысканий, нужно овладеть понятийным аппаратом. Здесь возникает первая сложность. Философские термины невозможно усвоить, как, скажем, действия арифметики, просто в процессе обучения, даже при наличии искренней заинтересованности и приложении немалого усердия. Импульсы любви к мудрости, пусть до определенного момента не очень интенсивные, должны быть составной частью души. Если такие некомфортные и нестандартные компоненты в совокупности личности отсутствуют, акт философствования не состоится. Если они имеются, обнаруживается много иных трудностей. Ближайшая из них – это то, что понятия не могут быть всегда равны себе; окунаясь в мыслительные потоки разного уровня и характера, они изрядно или слегка трансформируются, обретают новые коннотации. С другой стороны, термин накладывается на специфику образования познающего, его духовный и умственный потенциал; психическими особенностями индивида тоже полностью пренебречь нельзя. Не найдется ни одного человека, который тотально и во всех нюансах представил бы, например, функционирование чистого и практического разума именно так, как это виделось Канту (а верил ли сам кенигсбергский гений до конца в то, что прокламировал обладателям этих самых разумов?). Неоднозначные вибрирующие понятия с темнеющей подоплекой – это и есть те элементы, из которых складываются бессюжетные тексты, выплескивающие потоки неуловимой ауры, или выстраиваются строгие и не очень системы, различные по качеству, правдоподобности, степени завораживания и замахиваемости на конечную истину.
Как правило, многоуровневые и разветвленные доктрины сложны для освоения, требуется время и недюжинное напряжение интеллекта, чтобы сориентироваться в предпосылках и подводных течениях концепций, в балансирующей символике, заразиться (подчас амбивалентными) императивами, а иногда и развязать хитросплетения. Упорный читатель получает огромное удовлетворение от того, что наконец осилил специфику автора и, кажется, способен разглядеть его глазами, какие порядки имеют место на опекаемых солнцем просторах и смежных территориях. Однако период возбуждения и триумфа длится недолго; вдохновение, как и положено ему, выдыхается, и в рассудок все глубже ввинчиваются холодные струи отрезвления, бурные монологи сознания все чаще перемежаются подсознательным рефреном: «Это неправда». Самые импозантные вербальные постройки, спаянные сколь угодно захватывающей авторской эвристикой, – это в конечном итоге только «слова, слова», хотя и привлекающие чем-то из ряда строк вон выходящим. В любом случае каждая самоутверждающаяся система выделяет себя из окружения, имеет границы и омывается со всех сторон тем, что ею не является, но заключает в себе, по крайней мере, не меньше значимости, чем она сама. А то неизменно молчаливое, что обвивает всю совокупность кругозоров, – безмерно, глухо и неприступно для человека, оно не допускает интервенций и даже отдаленно не соответствует никакому мнению. Суждения и теории манипулируют лишь данностями, брошенными высшей милостью (или злорадством?) на петляющие траектории в воздушном бассейне.
Выпущенные в свободное обращение популяции максим и тезисов могут иногда поднимать бурю в стане эмоций, жалить рассудок вескими «железными» доводами или харизматическими провокациями. Так, например, накаливая умозрение, синхронно вызывают крайнее смущение развернутые выкладки о том, как воплощается «мировой дух», сколько этапов он проходит для самопостижения и зачем он затевает эти хождения в низшие сферы. Какую отдушину надо иметь в мозгу, чтобы отважиться обрисовывать динамику мирового духа? Как говорится, «вас там не стояло». Все, на что способны мирообъясняющие системы, – это вывести свои положения из уже известных положений и таким образом сформировать новый комплекс логических связей с внутренней убедительностью и доказательностью, которые работают только в рамках данной парадигмы. Много удручающего и вместе с тем забавного есть в той серьезности, с которой выученики различных школ пекутся о выдвижении своих теорий на передовые позиции, о придании им статуса объективности и универсальности. Эти «игры в бисер» носили бы более легкий и приятный характер, если б к ним не примешивалась зачастую слишком явная забота о зарплате, социальном положении, месте в иерархии. Очень точно охарактеризовала эти суматошные и неоднозначные процессы Симона Вейль: «Культура есть орудие университетских профессоров для производства университетских профессоров».
Не причастное к гуманитарным дисциплинам большинство населения игнорирует залежи непотребительских текстов и сопутствующей герменевтики, если эти альфы и омеги ему не навязываются, и выказывает ярую враждебность, если феномены духа покушаются на шаблонные утехи и всенародную мифологию. Легко объяснить такое положение вещей элементарным невежеством масс и их погруженностью в иные, более низкие сферы повседневных хлопот. До некоторой степени это верно, однако в целом суть проблемы гораздо глубже. Если позволено детям природы пренебречь отвлеченными от меркантильного интереса схемами, значит, лишены эти конструкции непреложности. Естество отторгает их, поддаваясь инстинкту самосохранения. Опыление спекулятивной эссенцией здравого смысла привело бы к завихрению последнего, к разладу общего самодовольства и в конечном итоге худо-бедно налаженного быта; эта процедура омовения противопоказана средневзвешенному мозгу, он должен выполнить свои нехитрые задачи, разогнавшись от начального импульса, и свернуться в конечных судорогах. Кто-то должен производить товары первой, а также третьей и десятой необходимости. Много ли теряют дюжинные труженики меча и орала, не вовлеченные в тенета софистики, казуистики и прочей умственной эквилибристики? По большому счету ничего не теряют. Вопреки многочисленным жалобам официальных и доморощенных просветителей, никто не противится знанию. Не принимают то, что в силу своей сомнительности может быть не принято.
Подлинному знанию противостоять невозможно и самоубийственно, оно – счастье; самый ничтожный сгусток молекул с восторгом ощутил бы, что к нему прикасается правда бытия, и в тот же миг избавился бы от своего ничтожества. То, что рождается в прениях и достигается в компромиссах на международных симпозиумах и подпольных сходках, – всегда спорно. Если бы истина захотела явить себя в этот мир, то была бы очевидна без аргументации, она мгновенно возвысила бы всё до своей безусловной правоты; нельзя знать истину, в ней можно только быть, разделяя с ней абсолютную полноту вечности.
Сущее не поймать на логические крючки и не заманить в капканы абстракций, ловцы этой тайны никогда не смогут даже отдаленно сформулировать, за чем они, собственно, охотятся. Все добытое в мутной жиже позитивизма, схоластики, интуитивизма страдает сопряжением со «слишком человеческим», в котором так много звериного, жадно и ненасытно пьющего из гипнотической, кромешной и нерушимой тьмы. Так же как каждое действие нивелируется противодействием, каждую догму опровергает противодогма, и в результате исканий неизменно оказывается ноль – беспощадное мертвящее стоп.
Если бы в одночасье исчезли все теоретические накопления столетий, не стало бы атомов, архетипов, монад, размножающихся делением -измов, оказались бы насельники выхолощенных континентов более ущербными и уязвимыми? Вряд ли смятение длилось бы долго. На месте пусте развилось бы потихоньку (от простого к сложному) иное интеллектуальное достояние. Но если сам человек субстанциально не меняется, то остается нетронутым его основополагание, и после любой катастрофы на оживающих пепелищах вылупятся прежние фантомы диалектики, мистики и фольклора, слегка модифицируя свое обличье. А затейливые изгибы новых абстрактных систем рано или поздно развернутся в ту единственную для них сторону – в никуда. Напрасны все вдохновенные порывы и мнимые прорывы, если сохраняется незыблемым основной статус человека. Имея в распоряжении несколько обманывающих чувств и комплект силлогизмов, он не участвует в ошеломляющем величии Вездесущего и обречен, опираясь на химеричные фундаменты, делать открытия в масштабах западни и творить себе сподручных кумиров.
Телесные недуги, психические комплексы, все то, что называется судьбой, не подлежит устранению людьми, необходимо таскать этот груз по земным (и только ли земным?) маршрутам до вероятного загадочного пресуществления. Отраслевые науки в какой-то мере облегчают хождения по мукам, предлагают средства для обезболивания и повышения тонуса; обилие технических аппаратов и машин приносит пользу (и соответствующие проблемы) в быту и организации общества. У прикладных наук свои ценности и ориентиры, и не о них сейчас речь. Куда ведет развитие отвлеченных от индустрии и не потакающих массовому спросу теорий? Возможен ли здесь прогресс в обычном смысле этого слова? Движение, конечно, происходит, и генерирует шумы, и создает новые ритмы, как и подобает движению. Но Гегель – это не прогресс по отношению к Гераклиту, а Мах и Бергсон не знали по сути больше Платона, хотя последний не оперировал такими славными понятиями, как, скажем, «экономия мышления» или «жизненный порыв». В любую эпоху мышлением руководит сверхмерная и надменная стихия, завораживает и надрывает его, отодвигает от природных и социально-культурных напластований и не меняется в сутолоке конъюнктур, эта сила одинаково лишает значимости и каменные топоры, и скафандры космонавтов.
Философствующий всегда одержим одной и той же идеей – преодолеть подложную явь, выйти хотя бы на чистый простор, обнаружить золотистые выхлопные дымы перводвигателя или отпечатки пальцев вселенской Alma-Mater и выдохнуть восхищенное Ave.
Мудрость – невольный враг мира, и мир не вынесет ее в большом количестве, ибо умножаемая ею печаль остановит зарвавшуюся эволюцию до срока (а формы неукротимой активности, видимо, должны выработать свой ресурс). Бесполезно вопрошать: что же делает в диапазонах бесперспективности снабженная волей к гибели мудрость, чем кормится ее неадекватность, в каких запредельных областях имеет она корреляты? Мудрость не делает ничего, что связано с деятельностью, она покорна повелению быть и бытийствует, как ей положено. Она заберет в зону своего влияния тех, кому на роду написано там находиться, кто движется к смертному часу, захлебываясь ее горчащими постулатами, а не наслаждаясь прелестями всемирного балагана. Мудрость – не актуальна и не старомодна, она не руководствуется ни гуманными, ни антигуманными лозунгами и культивирует отрицание своей харизмы, немея от бесконтактных прикосновений Абсолюта.
Более или менее широкое хождение в академических центрах и на еретических перифериях получают лишь поверхностные мировоззренческие сочинения, не раненные эсхатологическими сквозняками, – те, которые допускают адаптацию к текущему порядку вещей, игнорируя победоносные вихри вакуума. Практический рассудок увлеченно раскручивает свою механику, а с каждым его достижением все лукавее разветвляются лабиринты. Уму пособничает интуиция, она предпочитает не смотреть в упор, у нее своя тактика (не дедукции, а откровения), она не выводит, а предугадывает то, что ей фатально пред-стоит, предпослано. С учетом их специфики, и интуиции, и рассудку даются материал и методы его освоения для создания многоярусных капитальных сооружений или размытых мозаик, которые, совместно или порознь, монотонно ретируются в гибельные туманности за горизонтом. И только очень глубокий ум и сильная интуиция подозревают, что они, то соперничая, то помогая друг другу, переливают из пустого в порожнее.
Хранилища продуктов анализа и синтеза пополняются. Алчущий света может досыта натешиться его имитациями в дымке архивной пыли, и настанет удушающий момент, когда он захочет вырваться на свежий воздух, под звездное небо, которое не всколыхнули ни чад разлагающихся структур, ни пафос добрых намерений и ни одна доктрина. И может, разбуженная древними позывными созвездий, взыграет генная память современного искателя, нагнетая восторг и ужас пещерных пращуров, и выплеснется его устами в чуткую тишь эфира молитва первых людей, уже вобравшая в себя всю непогоду ментальности.
Галина Болтрамун
В книгу включены произведения малой прозы художественно-философской направленности. Эклектика, пересечение жанров. Невольные мысли и вольные интерпретации.
Эссе. Новеллы. Миниатюры
Галина Болтрамун
© Галина Болтрамун, 2018
ISBN 978-5-4490-8095-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЭССЕ
О словесности
В начале было слово. Какое слово? В начале чего? Какие виды ничтожествования и небытия довольствовались собой до начала всех начал? Можно лишь ради забавы рассуждать о безнадзорном хаосе, возникновении космоса и миросозидающих словах – все наши допущения на этот счет не выдерживают даже нашей критики. Мы располагаем лексиконом иного качества, который в свернутом виде дается вместе с рождением, как группа крови, слух, интуиция. Важнейшая функция языка, как утверждают учебники и энциклопедии, – быть средством коммуникации. Очевидно, что подвизаться в общественных учреждениях и быть свободным от общения нельзя. Но является ли это предназначение языка действительно главным? Ответ зависит от взятой точки отсчета, а точки эти могут располагаться в самых неожиданных местах. Для немалой доли тех, кто ежедневно вынужден высказываться в разных тонах и по разным поводам, огромные пласты словесности вне обихода и стандартного образования так и останутся terra incognita. Что теряет индивид, не обладающий способностью заглянуть в иную явь, или, наоборот, что он сохраняет в себе, не поддаваясь сомнительным призывам темной вербальности? Никакие бесспорные выводы не напрашиваются. А споры будут разгораться и гореть синим пламенем до иссякания дара речи на громогласной планете.
Прагматизм, галлюцинации, рациональность и причуды словесности, ее многомерные перспективы и тупики сберегает письменность, в этом многоэтажном и разветвленном хранилище найдется доза бальзама на каждое сердце. Сердца в подавляющем большинстве бьются в унисон с развитием цивилизации, которая периодически затевает ревизию кумиров и приоритетов, окутывает себя сентиментальностью, обрызгивает водами священных рек и вдыхает ароматы летучих мод и поветрий.
Достаточной популярностью пользуются созвучные поступи прогресса повествования, оптимистичные, с прямым и косвенным восхвалением героических стандартов, платонической и плотской любви, с оглашением права битого обстоятельствами персонажа на счастье; сюжеты кочуют из поколения в поколение, обрастая спецификой эпохи, страны, вбирая особенности климатической зоны и политической ситуации. Однако стабильно неувядающую симпатию снискали чисто развлекательные, без сократической подкладки и мусической накидки, жанры, как то: детективы, любовно-приключенческие романы, боевики, сонники, руководства по отворотам-приворотам, анекдотическая по своей убогости мистика и т. п. Такие массовые проекты отменно играют свою роль в деле воспитания расторопного общества потребления. Пусть себе играют; видимо, без этой шарманки оркестр словесности был бы не полон.
На отдельной ступени располагается высокохудожественная изящная литература, вскормленная музами и сеющая на неблагодарной почве «разумное, доброе, вечное», и доблестное, и романтическое. Благородство, яркие вспышки правдолюбия, жертвенность во имя идеала, стоическое мужество – все это вызывает уважение, а иногда и восхищение. Жаром своей творческой температуры писатель воспламеняет героев-светочей, чающих разбавить темень неприглядного быта и подчас безвременно и эффектно гибнущих на перекрестках мечты и суеты сует. Эта словесность любит восходы и закаты; приникшие к ландшафтам руины не пронизаны жилами скепсиса, не имеют запаха всечеловеческой катастрофы, они напитаны серебристой грустью и медленно выветриваются на фундаментах, гипотетически заложенных в золотом веке. Над садами с античными скульптурами и барочными цветниками смутно реют тени невыразимого, но не будоражат опасные залежи подсознания, а вызывают томление о чем-то возвышенном, возможном, но не свершившемся. Некоторых титанических оригиналов удручает неподатливость гравитации, но они не слишком рьяно стучатся в глухие ворота потусторонности, догадываясь, что, вопреки каноническому утверждению, они не откроются. Экстатическая приподнятость не переступает порога, где она могла бы соприкоснуться с безвкусицей, легкая печаль не достигает трагизма, душевный коллапс предотвращается достаточным запасом прочности нервной системы. Такие произведения хорошо читать в юности, когда еще не потеряна окончательно вера в то, что Бог создал человека по образу своему и подобию, а в груди кипит столько энергии, что кажется: ее хватит и на рыцарские подвиги, и на научные открытия, и на освоение туманностей Андромеды, Кастанеды и Парменида.
Особый род письменности – мифология, претендующая на священность своих сур, сутр, панацей и декламаций. Ортодоксальные тексты с годами обрастают внушительным количеством разрозненных комментариев, но всегда являются нерушимой надстройкой гражданского базиса, иногда они видоизменяются или заменяются новыми, но как таковые никогда не исчезнут. Без них нельзя. Почему? Какой силой владеют сказочные по содержанию, не очень складные, местами вопиюще несуразные саги, которые ниже всякого анализа? Обратимся к одному из самых известных мифов, преданию о сотворении Адама и Евы. Зачем именно в райском саду нужно было культивировать одиозное дерево, которое дразнило и возбуждало первых людей и превращало их жизнь в ад? И что это за такой благословенный уголок, где запросто разгуливает злой дух в виде змея и безнаказанно прельщает невинные создания? Почему ему позволено безобразничать во владениях Вседержителя и чем вообще последний мог бы обосновать интересное присутствие не только в его парках, но и во всем мироздании нечистой силы? Кто наделил злосчастную пару волей к познанию добра и зла и ослушанию? Сходные недоумения провоцирует чуть ли не каждый абзац любого мифа. Остается лишь восклицать: «Верую, ибо абсурдно». Непонятно, почему это приписываемое Тертуллиану изречение часто упоминается; оно кажется плоским, не остроумным и перекликается с известным на бывшем советском пространстве афоризмом Ленина «Учение Маркса всесильно, потому что верно», сюда же относится, например, «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Подобного рода «мудрости» производятся в несметном количестве; и что касается мифа, то именно такие «железные доводы» воздвигаются для его защиты, миф и не рассчитывает на хоть сколько-нибудь внятную трактовку, он требует слепой веры и повиновения.
С баснословными поверьями испокон века соседствуют высокие образцы словесности разных видов, пронизанные тоской по истине; но не скрывающие своих противоречий, готовые к самоликвидации продукты сложной душевной деятельности не дерзают назвать себя божественными. А миф в силу своей всесторонней недалекости (вкупе с наглостью?) во всеуслышание заявляет, что он-то и есть подлинное слово Божье, и объявляет монополию на определение богоугодности, праведности и благочестия. Только ли благодаря апломбу и интригующим сюжетам господствует мифология над коллективными представлениями? Трудно судить. Дело обстоит не только так, что миф является порождением незрелого ума, верно и обратное: это миф охватывает сознание и контролирует его деятельность, так что замкнутый микрокосм не подвержен влиянию макромиров и вполне довольствуется войной и примирением домотканых противоположностей. Общественное сознание предрасположено к принятию мифа, тут наблюдается обоюдное тяготение и взаимопроникновение, это любовь на все времена, а о скончании времен не помышляют в царстве идола и кесаря. Типовое просвещение дает исчерпывающие псевдоответы на псевдовопросы, и неунывающие поколения гордо пользуются успехами прогресса, прилаживаясь к солнечному колесу и отдавая посильную дань светилам на мифическом небосклоне. Бывает, что в расцвеченную ткань мертворожденных легенд вплетаются инородные нити бесцветной одушевленности, но они игнорируются народообразующим большинством и находят банальное истолкование у проповедников мифологии. В утешение ревностным приверженцам фантасмагорий с ними, не поступаясь совестью, можно согласиться, когда они утверждают, что их верования инспирированы Богом. Инспирированы. Как и все остальное под звездами. Как смогло бы укорениться нечто, Им не поощряемое?
Ницше любил читать только то, что написано кровью. Так уж повелось на затоптанных и заезженных территориях планеты, что за крещение высью приходится расплачиваться кровью. Создаваемая такими органическими чернилами литература заряжена негуманной семантикой, ее стандартно исполненные абзацы и главы пронизаны импульсами неких дочеловеческих перипетий или сверхчеловеческих комплексов. Она складывается как будто под эгидой надмирных архетипов, проистекает из роковой необеспеченности и выносит на поверхность блики парализующих красот, элементы жуткой гротескной бесцеремонности или символы внепонятийной проблематики. Исходит ли она из преисподней, отвергая устоявшуюся дисциплину, узаконенные масштабы и критерии? Нет. Живописные демоны с величественной осанкой и горящими глазами, равно как и хромые, горбатые черти здесь ни при чем. Тут предугадывается нераздельная первичность, без генеалогии и родственных связей с Архангелом или Люцифером. Эта глобальность крайне безжалостна, имеет в виду только себя и не удостаивает вниманием иждивенцев кислорода, скученных на крохотном осколке тверди и умозаключающих о бытии или небытии Бога на основании эпизодов, разыгрывающихся на вытянутой в окоеме панораме.
Возможен ли диалог абсолютной исконности с 36-градусной болванкой? Вопрос риторический. Тем не менее не все так просто. Непомерное удивление вызывает сам факт наличия смертного, уязвимого и язвительного субъекта в навязанной ему обстановке. Этот субъект, задуманный и сберегаемый для непонятных целей, болезненно ощущает, что он соотносится не только с видимыми и осязаемыми объектами, но и с чем-то еще. В фокусе неизмеримой подспудности индивида бытийствует корпускула, не сводимая ни к физиологии, ни к психике, ни к социальным иллюзиям. Эта корпускула – себе на уме, она не сообщается с другими компонентами личности или даже находится в оппозиции к ним, и именно она тайно перекликается с запредельностью на только им известном наречии. Настают моменты, когда неизученные микроэлементы в подоплеке организма окатывает волна безымянного величия, и у человека захватывает дух (именно дух, не дыхание).
Стремление писателя, вернее, его планида и неотвратимость – запечатлеть вербально приливы и отливы сумеречных настроений, патетику то подспудных, то сверхмерных значений. Желание воплотить невоплотимое никогда не сбудется, из аморфной лавины вдохновения нельзя сгенерировать нечто, воспроизводимое речевым аппаратом, подчиняющееся морфологии и синтаксису. Песня все же каким-то чудом образовывается, и потом из нее хочется выкинуть слово за словом, чтобы обнажить несказанное. Свечи разума трепещут, окунаясь в опасные стихии. Стоят ли эти игры свеч? Или крови? Такой вопрос не возникает перед игроком, а также: чему быть или не быть на кону? Все идет каким-то своим чередом. Те, для кого хоть немного раскрывается содержание написанного кровью, не станут вникать в опусы, начертанные иными жидкостями во имя утилитарного просвещения, интенсивного развращения и коллективного порабощения граждан. Странная доля – сочинять, прикипев к беспрецедентности, тома, где превзошедшая смыслы энергия бродит сквозняками между строк, подсвечивает верхушки букв, завихряет многоточия, а так и не прорвавшаяся наружу весть, расшатав грамматические конструкции, скатывается в бездонные пробелы. Но эта доля не страннее и не страшнее совокупной участи Земли.
Литература (по всей очевидности) создается авторами. Что касается ее коммерческих и популярных видов, то все более или менее ясно и в значительной степени предсказуемо, тут действуют механизмы рынка, законы массового спроса и потребления. Востребованность писателя зависит от его активности, своевременного появления в нужных местах, от вкусовых предпочтений сограждан и деятелей официальной культуры, от усердия рекламных агентов, имиджмейкеров и других специалистов данного поприща. Художественные критерии в данной предпринимательской отрасли приложить не к чему.
А кто есть автор неудобоваримой литературы? Существо, конечно же, экстравагантное, шагающее не в ногу, не попадающее в струю, прозябающее на обочине. О взаимной неприязни творцов метафизических произведений (по убеждению Г. Гессе, подлинный писатель – всегда метафизик) и здравомыслящего населения поведано много. А пристало ли одиноким носителям невнятной интенциальности, которые, будучи белой вороной или паршивой овцой, оскорбляют благообразные стада и стаи, жаловаться на недостаток внимания со стороны ближних своих? Не пристало. Этих ближних они превратили в дальних, игнорируя моменты сермяжных истин, не разделяя державной славы, не лелея прогрессивных надежд и переполняя чашу казенного терпения. И общество должно выказывать благосклонность тому, кто, невежливо отгородившись, разглядывает его сквозь унижающие призмы? И содержать отщепенца материально? Если ситуация складывается так, что «инженер человеческих душ» не в состоянии продать свои нетоварного вида фабрикаты, он не должен роптать, а заработать себе на жизнь иным способом. При неучастии в гонках по служебной лестнице и умеренных притязаниях это не так уж и сложно.
Издавна бытует мнение, что некоторые авторы опережают свой век, что только будущие поколения созреют для того, чтобы оценить их и воздать им должное. Это может быть справедливым по отношению, например, к научным гипотезам, которые лишь через какой-то срок обретут доказательства, подтверждающие гениальные прозрения ученого. У метафизического автора признания не бывает никогда, независимо от того, заговорят ли о нем в каждом университетском углу или забудут окончательно. И не факт, что первое лучше, чем второе, так как все, что оторвано от плоского позитивизма и развертывается в сфере духовности, не может обрести популярность, а если такое случается, то происходит профанация подлинников. Вивекананда, с успехом собиравший в Америке большие аудитории, горько сетовал, что никто из тех, что с пылом ему аплодировали, не изменил ни одной своей привычки. Мода на увлечения скоротечна и неразборчива: сегодня – острые углы кубизма, завтра – круглые лики буддизма, послезавтра – пары парапсихологии (всегда налицо упрощение до уровня пошлости). Каждая эпоха проводит время, подняв на щит лозунги сиюминутностей.
Как правило, не адаптированный к меркантилизму и маниакальности публики сочинитель не заблуждается насчет радужности перспектив для своих эгоцентричных, нелегитимных детищ. Для чего же, вопреки всему, в ущерб личному благосостоянию, нередко и здоровью, компонует он всю жизнь из элементов лексикона нечто, превосходящее словесную материю, зная, что не достигнет идеала? А ни для чего. Произведение – это одна из составляющих автора как человеческой особи наряду с позвоночным столбом, мышечными сокращениями, обменными процессами. Оно выходит наружу, подобно выдоху, не может не выйти, потому что еще до рождения обреченным вещателем был сделан соответствующий вдох.
Такая соотнесенность со «сферами иными» должна была бы триумфально перечеркнуть все волеизъявления и поползновения ёрнической юдоли, ее насмешки и небрежение вкупе с дифирамбами, почетными званиями, лавровыми венками и премиальными банкнотами. Но музыка горних сфер – неотчетлива, постулаты для творчества – тревожны и двусмысленны, а сопряженность с инобытием носит такой характер, что благоговение то и дело перемежается с ужасом. Невнятные темы и мотивы, навеянные анонимным гулом, остаются аморфными и чужеродными. То, что удается зацементировать глаголом, полагает себя как нечто конкретное и таким образом обособляется от своих истоков и функционирует в качестве сгустка финитности, который не забывает, однако, своей достойной генеалогии. Мощная стихия, оторвавшая автора от обычных фундаментов, не предлагает иной опоры, ее посулы смутны и не только неоднозначны, но, кажется, – за порогом всех значений.
Влияние нерыночного творчества на прагматизм хлопотливых будней почти незаметно. Длинные километры страниц посвящены неспособности социума впитать хоть что-нибудь, выходящее за рамки практической пользы, развлекательных мероприятий и удобоваримой мифологии; утратило, дескать, общество чистую религию, духовность, потребность в катарсисе. Горькие изыскания на эту тему часто проницательны и обоснованны, но всегда возникает одно возражение: ничего подобного общество никогда не теряло. По той простой причине, что не имело. Более того, качающаяся между колыбелью и гробом житейщина именно потому и воспроизводится, что строго придерживается своих амплитуд и не попадает в опасный размах духовных стихий. Бюргеры от культуры прилаживаются к кодам эсхатологии и шифрам трансцендентности так, чтобы не нарушить уютной закоснелости, они заботятся о консервации привычного комфорта, добытых привилегий и низводят вещую тьму к нормативам муравейника и обывательскому пафосу. Творческая стихия – разрушительна для любого муравейника. Сенека утверждал: «Свободные искусства не суть благо и нисколько не способствуют добродетели». Да и кто из поборников свободных искусств не делал заявлений в таком ключе?
Словесность подразделяют на роды, виды, жанры и более мелкие разновидности, эта градация – внешняя и второстепенная. По большому счету, есть только два вида письма, условно говоря, – живое и мертвое. В нескольких строфах может отразиться глобальная мировоззренческая проблема с заходящими за горизонт диапазонами, едва уловимая совокупность импульсов и диагнозов метафизики, а объемистый том наукообразного текста, где на каждой странице мусолятся философские термины, может походить на скрип несмазанной телеги. Многие философские диссертации не имеют ничего общего с «рассматриваемым предметом». Посмотреть друг другу в глаза в состоянии лишь те, что находятся на одинаковом уровне, тогда каждый увидит в какой-то мере своего визави даже в том случае, когда взгляд вынужден пересекать бездну.
В обычной практике скрепленная специфичной целостностью доктрина исследуется с каких-то сторон и, будучи объектом анализа, погружается в инородную ментальную среду; в новой обстановке она обрастает новой плотью, потом, став гибридом, вступает в другие связи и снова модифицируется. Таким образом, есть опасность погасить даже мельчайшие блики от ауры первоисточника. Но именно «искра божья» и только она отличает живое произведение от мертвого. Сюжетно-тематические каркасы повестей, теорий или систем не имеют самостоятельного бытия, они неотрывны от своей подсветки; перенесенные на чужую платформу, они перестают быть собой и становятся функциональными деталями иных структур. Только характерное свечение делает творение тем, чем оно является, снабжает его неповторимостью и жалящим очарованием.
Мы храним любимые книги и приникаем к ним вновь и вновь не затем, чтобы освежить в памяти перипетии романа, лейтмотив эссе или необыкновенную заточку научного инструментария (все это давно закрепилось в мозгу), мы возвращаемся на зачитанные страницы, чтобы еще раз отведать тайного (может, и запретного) плода, пропустить через себя магнетизм иноверия или мистической катастрофы, подключиться на какие-то мгновенья к токам надмирности. И вся проницательность лингвистики не выяснит, почему именно такая, а не иная последовательность частей речи генерирует нечто отделяющееся от языковой материи, несказанное. В разорванности передних планов отблескивает волшебство, которое манипулирует автором. Обращается ли к нам не искореженный болестями пращур? Или константа отобранной родины? Или наше будущее?
А что происходит, когда за толкование живого произведения берется тот, кто сам питается от «искры божьей»? Схлестывание огней благоприятно для проливания света на таинственную бездонную мглистость буквенных массивов. Когда, например, Г. Гессе интерпретирует Достоевского, дух торжествует, имплицитность выражает готовность к экспликации. Разбор ситуаций, фабул, камней преткновения, психологических лабиринтов или многогранности ума и морали кажется гениальным. Подобные трактовки интересны и значимы даже сами по себе как самодостаточный акт выражения духовности, они могут быть одинаково притягательными и для почитателя творчества Достоевского, и для того, кто с ним не знаком. Возможно, что последний, потрясенный и воодушевленный анализом одаренного немца, захочет немедленно перенестись в специфичные сферы обитания князя Мышкина или братьев Карамазовых и… будет сражен тем, что оказался на балу иных братий и бестий, на дегустации иной аксиологии. Значит ли это, что Гессе где-то ошибался? На такие вопросы нельзя ответить «да» или «нет».
Большие величины обнаруживают единство, так как отмечены прикосновением Всеединого, они пьют из общего источника вдохновения и обречены на сходство постольку, поскольку подчиняются одухотворенной невыразимости. Но гомогенная кормящая стихия сочетается с личностным своеобразием сочинителя, и в результате он порождает уникальные гибриды, объединяющие универсальность и узкую конкретику. У каждого автора есть клады, хранящиеся не только за семью замками, но и под печатями «совершенно секретно», все из них не вскроет никто даже при наличии глубокого понимания и благоговения. При отсутствии разногласий читатели были бы двойниками авторов и образовывали бы некие пустые множества. Критика любого творения (и благосклонная, и негативная) является в большей или меньшей мере также и его искажением, обусловленным неотвратимой субъективностью исследователя. Гегель предупреждал, что его систему нельзя пересказать другим языком. А Лев Толстой говорил, что если бы его спросили, что он хотел выразить своим романом, то для ответа ему пришлось бы написать этот роман еще раз. Чтобы до конца постичь произведение, надо было бы стать им. Но даже при наличии такой возможности никто не согласился бы превратиться в чужое сочинение, свои иллюзии ближе к телу. Да и к чему это? От смены мировоззрений мир не меняется.
Впрочем, нет ничего плохого в том, чтобы выхватить из неразложимой целостности идею или понравившийся отрывок для анализа, прочувствовать коннотации терминов и понятий, подметить нетривиальность эпитетов, отнести к той или иной категории стиль текста, что-то сопоставить и противопоставить; может, это даже полезно с какой-то стороны, в ходе таких манипуляций не исключено возникновение чего-то самостоятельного, стоящего и талантливого. Правда, часто это похоже на игру. Но – что наша жизнь?
Сгустки, слитки, глыбы и комья языковой материи, различные по весу, качеству, структуре, притягивают и отталкивают друг друга, устраивают пышные парады и претерпевают жестокие коллизии. В дополнение к военным операциям воздух постоянно сотрясают речевые баталии, и остается удивляться, как это еще не сбилось какое-нибудь эфирное масло. Воздух выдержит нагрузку, и бумага, и скрижали, и прочие носители. Только человеческое сердце сжимается под лавиной падших смыслов и просит анестезии. Однако гуманитарные институты усиливают рупоры, и, пока есть порох в пороховницах культуры, мы будем ранить и пытаться убивать друг друга словом, не стремясь к созвучию, видимо, неосознанно полагая, что из множества неправд не сложить правду. А когда ударная волна эвристики разметает остатки отслужившей грамотности, воспрянет та корпускула в душе, которую держал на связи Абсолют. Во что разовьется эта суверенная частица? Если кроме нее от нынешнего Я ничего не останется, то зачем ей нужно было гнездиться в комке бренных волокон?
В начале было слово. Фраза-пустышка, не лишенная привлекательности, не более патетичная и бестолковая, чем «конец света». Бытие не знает концов и начал. Оно есть и ни под каким углом не доступно обозрению смертных. А то, что было в начале бесчисленных процессов становления, – тоже далеко за пределами людского кругозора и понимания; лишь смутные гулы недосягаемой инаковости пробивают атмосферу и чуть слышно сквозят в неприкаянном косноязычии.
В филологии не без успеха циркулирует и такая точка зрения, что нет никаких внетекстуальных, междустрочных смыслов и идей, что устная и письменная речь отражает структуру, субординацию и всю жизнедеятельность общества, а абстрактные изыски, побочные эманации концепций или грезы поэзии – это всего-навсего болезнь языка. Данной тематике можно посвятить несколько томов, они могут оказаться как бездарными, так и потрясающе интересными. Только каков итог? Раскроет кто-нибудь, что есть здоровье языка? Трудно, конечно, заподозрить в хроническом недуге трезвые и дисциплинированные фразы типа «мама мыла раму». Но и вселенским здоровьем здесь не пахнет. Речевые обороты и выверты, обслуживающие каждодневную рутину, – мертвы. А тексты уровня «Упанишад», «Критики чистого разума» живут и болеют. Исцелить их язвы и раны могло бы только прикосновение истины, но она глуха к мольбам и молитвам, ибо все наши молитвы безосновательны (как они могли бы в здешних условиях стать иными?).
Сотканные из предельных напряжений языка, из его казусов и ребусов живые сочинения непримиримо оппонируют публичным тенденциям и акциям, но не противопоставляют им внятных идеалов. Отпущенная на маркировку страниц квота «искры божьей» не увеличится, иначе она сожгла бы все наличные конструкции, которые, видимо, должны исчерпать себя в ином предустановленном порядке.
Во всеобщую парадоксальность действительности хорошо вписывается и тот факт, что сверхидея словесного произведения выказывается нечленораздельно. А что касается его более низких, изобразительных планов, оно может отражать что угодно, иметь стройную композицию или быть откровенно сумбурным, что-то преподносить, защищать или порицать; это по большому счету имеет мало значения, в любом случае все работает на основную идею. Повествования, не высекающие метасодержания, – крайне скучны, утомительно следить за потугами и перипетиями того, что выброшено за борт бытия. А бытие – это непременная и неотменяемая сопряженность с бесконечностью, бессмертием и полнотой божественного знания.
Никаких ориентиров и указателей в обозримом пространстве Вышние Силы не расставили; нет критериев, чтобы определить, куда гонят нас галактические ветры и догматические поветрия: в сторону Сущего или в обратном направлении. Как бы то ни было, движение не замедляется; и с момента первого крика активируются голосовые связки человека, чтобы неустанно трудиться до той минуты, когда он сложит с себя полномочия своей немощи и произнесет последнее слово. Независимо от его формы, точного лексического значения или полной бессмысленности, оно откроет (какое по счету?) начало инобытия или сбросится со всех счетов. Возможно, только несказанное причисляется к неисчислимости. Любые догадки останутся фрагментами вербальности и разделят с ней судьбу по эту сторону добра и зла.
Блеск и нищета философии
Странствующие по владениям самой опасной и притягательной страны – философии – непременно встретят и чудо, и чудовищ; этим путникам – искать единомышленников и находить alter ego, стучаться в звукопоглощающие двери, все больше отворяя себя для инородных проникновений. Философия не наука, М. Хайдеггер определил ей в сестры поэзию, а про науку сказал, что она, возможно, только служанка философии. Философия – это закон притяжения душ вечностью, неуемная жажда духа осуществиться, соотнестись с бытием. Но почему не всем этот закон писан? И почему даже в кругу заболевших истиной нет и не может быть согласия? Каждый на свой страх и риск отправляется в terra incognita, чтобы в одиночку отведать экзотических запретных плодов. Флер запретности до сих пор окутывает стезю познания, а печаль, умножаясь со времен Экклезиаста, все отчаяннее близится к критической величине.
Философское наследие огромно. Несомненно, для того чтобы ощущать разреженную атмосферу отвлеченного знания в общем и целом и вдаваться в детали спекулятивных изысканий, нужно овладеть понятийным аппаратом. Здесь возникает первая сложность. Философские термины невозможно усвоить, как, скажем, действия арифметики, просто в процессе обучения, даже при наличии искренней заинтересованности и приложении немалого усердия. Импульсы любви к мудрости, пусть до определенного момента не очень интенсивные, должны быть составной частью души. Если такие некомфортные и нестандартные компоненты в совокупности личности отсутствуют, акт философствования не состоится. Если они имеются, обнаруживается много иных трудностей. Ближайшая из них – это то, что понятия не могут быть всегда равны себе; окунаясь в мыслительные потоки разного уровня и характера, они изрядно или слегка трансформируются, обретают новые коннотации. С другой стороны, термин накладывается на специфику образования познающего, его духовный и умственный потенциал; психическими особенностями индивида тоже полностью пренебречь нельзя. Не найдется ни одного человека, который тотально и во всех нюансах представил бы, например, функционирование чистого и практического разума именно так, как это виделось Канту (а верил ли сам кенигсбергский гений до конца в то, что прокламировал обладателям этих самых разумов?). Неоднозначные вибрирующие понятия с темнеющей подоплекой – это и есть те элементы, из которых складываются бессюжетные тексты, выплескивающие потоки неуловимой ауры, или выстраиваются строгие и не очень системы, различные по качеству, правдоподобности, степени завораживания и замахиваемости на конечную истину.
Как правило, многоуровневые и разветвленные доктрины сложны для освоения, требуется время и недюжинное напряжение интеллекта, чтобы сориентироваться в предпосылках и подводных течениях концепций, в балансирующей символике, заразиться (подчас амбивалентными) императивами, а иногда и развязать хитросплетения. Упорный читатель получает огромное удовлетворение от того, что наконец осилил специфику автора и, кажется, способен разглядеть его глазами, какие порядки имеют место на опекаемых солнцем просторах и смежных территориях. Однако период возбуждения и триумфа длится недолго; вдохновение, как и положено ему, выдыхается, и в рассудок все глубже ввинчиваются холодные струи отрезвления, бурные монологи сознания все чаще перемежаются подсознательным рефреном: «Это неправда». Самые импозантные вербальные постройки, спаянные сколь угодно захватывающей авторской эвристикой, – это в конечном итоге только «слова, слова», хотя и привлекающие чем-то из ряда строк вон выходящим. В любом случае каждая самоутверждающаяся система выделяет себя из окружения, имеет границы и омывается со всех сторон тем, что ею не является, но заключает в себе, по крайней мере, не меньше значимости, чем она сама. А то неизменно молчаливое, что обвивает всю совокупность кругозоров, – безмерно, глухо и неприступно для человека, оно не допускает интервенций и даже отдаленно не соответствует никакому мнению. Суждения и теории манипулируют лишь данностями, брошенными высшей милостью (или злорадством?) на петляющие траектории в воздушном бассейне.
Выпущенные в свободное обращение популяции максим и тезисов могут иногда поднимать бурю в стане эмоций, жалить рассудок вескими «железными» доводами или харизматическими провокациями. Так, например, накаливая умозрение, синхронно вызывают крайнее смущение развернутые выкладки о том, как воплощается «мировой дух», сколько этапов он проходит для самопостижения и зачем он затевает эти хождения в низшие сферы. Какую отдушину надо иметь в мозгу, чтобы отважиться обрисовывать динамику мирового духа? Как говорится, «вас там не стояло». Все, на что способны мирообъясняющие системы, – это вывести свои положения из уже известных положений и таким образом сформировать новый комплекс логических связей с внутренней убедительностью и доказательностью, которые работают только в рамках данной парадигмы. Много удручающего и вместе с тем забавного есть в той серьезности, с которой выученики различных школ пекутся о выдвижении своих теорий на передовые позиции, о придании им статуса объективности и универсальности. Эти «игры в бисер» носили бы более легкий и приятный характер, если б к ним не примешивалась зачастую слишком явная забота о зарплате, социальном положении, месте в иерархии. Очень точно охарактеризовала эти суматошные и неоднозначные процессы Симона Вейль: «Культура есть орудие университетских профессоров для производства университетских профессоров».
Не причастное к гуманитарным дисциплинам большинство населения игнорирует залежи непотребительских текстов и сопутствующей герменевтики, если эти альфы и омеги ему не навязываются, и выказывает ярую враждебность, если феномены духа покушаются на шаблонные утехи и всенародную мифологию. Легко объяснить такое положение вещей элементарным невежеством масс и их погруженностью в иные, более низкие сферы повседневных хлопот. До некоторой степени это верно, однако в целом суть проблемы гораздо глубже. Если позволено детям природы пренебречь отвлеченными от меркантильного интереса схемами, значит, лишены эти конструкции непреложности. Естество отторгает их, поддаваясь инстинкту самосохранения. Опыление спекулятивной эссенцией здравого смысла привело бы к завихрению последнего, к разладу общего самодовольства и в конечном итоге худо-бедно налаженного быта; эта процедура омовения противопоказана средневзвешенному мозгу, он должен выполнить свои нехитрые задачи, разогнавшись от начального импульса, и свернуться в конечных судорогах. Кто-то должен производить товары первой, а также третьей и десятой необходимости. Много ли теряют дюжинные труженики меча и орала, не вовлеченные в тенета софистики, казуистики и прочей умственной эквилибристики? По большому счету ничего не теряют. Вопреки многочисленным жалобам официальных и доморощенных просветителей, никто не противится знанию. Не принимают то, что в силу своей сомнительности может быть не принято.
Подлинному знанию противостоять невозможно и самоубийственно, оно – счастье; самый ничтожный сгусток молекул с восторгом ощутил бы, что к нему прикасается правда бытия, и в тот же миг избавился бы от своего ничтожества. То, что рождается в прениях и достигается в компромиссах на международных симпозиумах и подпольных сходках, – всегда спорно. Если бы истина захотела явить себя в этот мир, то была бы очевидна без аргументации, она мгновенно возвысила бы всё до своей безусловной правоты; нельзя знать истину, в ней можно только быть, разделяя с ней абсолютную полноту вечности.
Сущее не поймать на логические крючки и не заманить в капканы абстракций, ловцы этой тайны никогда не смогут даже отдаленно сформулировать, за чем они, собственно, охотятся. Все добытое в мутной жиже позитивизма, схоластики, интуитивизма страдает сопряжением со «слишком человеческим», в котором так много звериного, жадно и ненасытно пьющего из гипнотической, кромешной и нерушимой тьмы. Так же как каждое действие нивелируется противодействием, каждую догму опровергает противодогма, и в результате исканий неизменно оказывается ноль – беспощадное мертвящее стоп.
Если бы в одночасье исчезли все теоретические накопления столетий, не стало бы атомов, архетипов, монад, размножающихся делением -измов, оказались бы насельники выхолощенных континентов более ущербными и уязвимыми? Вряд ли смятение длилось бы долго. На месте пусте развилось бы потихоньку (от простого к сложному) иное интеллектуальное достояние. Но если сам человек субстанциально не меняется, то остается нетронутым его основополагание, и после любой катастрофы на оживающих пепелищах вылупятся прежние фантомы диалектики, мистики и фольклора, слегка модифицируя свое обличье. А затейливые изгибы новых абстрактных систем рано или поздно развернутся в ту единственную для них сторону – в никуда. Напрасны все вдохновенные порывы и мнимые прорывы, если сохраняется незыблемым основной статус человека. Имея в распоряжении несколько обманывающих чувств и комплект силлогизмов, он не участвует в ошеломляющем величии Вездесущего и обречен, опираясь на химеричные фундаменты, делать открытия в масштабах западни и творить себе сподручных кумиров.
Телесные недуги, психические комплексы, все то, что называется судьбой, не подлежит устранению людьми, необходимо таскать этот груз по земным (и только ли земным?) маршрутам до вероятного загадочного пресуществления. Отраслевые науки в какой-то мере облегчают хождения по мукам, предлагают средства для обезболивания и повышения тонуса; обилие технических аппаратов и машин приносит пользу (и соответствующие проблемы) в быту и организации общества. У прикладных наук свои ценности и ориентиры, и не о них сейчас речь. Куда ведет развитие отвлеченных от индустрии и не потакающих массовому спросу теорий? Возможен ли здесь прогресс в обычном смысле этого слова? Движение, конечно, происходит, и генерирует шумы, и создает новые ритмы, как и подобает движению. Но Гегель – это не прогресс по отношению к Гераклиту, а Мах и Бергсон не знали по сути больше Платона, хотя последний не оперировал такими славными понятиями, как, скажем, «экономия мышления» или «жизненный порыв». В любую эпоху мышлением руководит сверхмерная и надменная стихия, завораживает и надрывает его, отодвигает от природных и социально-культурных напластований и не меняется в сутолоке конъюнктур, эта сила одинаково лишает значимости и каменные топоры, и скафандры космонавтов.
Философствующий всегда одержим одной и той же идеей – преодолеть подложную явь, выйти хотя бы на чистый простор, обнаружить золотистые выхлопные дымы перводвигателя или отпечатки пальцев вселенской Alma-Mater и выдохнуть восхищенное Ave.
Мудрость – невольный враг мира, и мир не вынесет ее в большом количестве, ибо умножаемая ею печаль остановит зарвавшуюся эволюцию до срока (а формы неукротимой активности, видимо, должны выработать свой ресурс). Бесполезно вопрошать: что же делает в диапазонах бесперспективности снабженная волей к гибели мудрость, чем кормится ее неадекватность, в каких запредельных областях имеет она корреляты? Мудрость не делает ничего, что связано с деятельностью, она покорна повелению быть и бытийствует, как ей положено. Она заберет в зону своего влияния тех, кому на роду написано там находиться, кто движется к смертному часу, захлебываясь ее горчащими постулатами, а не наслаждаясь прелестями всемирного балагана. Мудрость – не актуальна и не старомодна, она не руководствуется ни гуманными, ни антигуманными лозунгами и культивирует отрицание своей харизмы, немея от бесконтактных прикосновений Абсолюта.
Более или менее широкое хождение в академических центрах и на еретических перифериях получают лишь поверхностные мировоззренческие сочинения, не раненные эсхатологическими сквозняками, – те, которые допускают адаптацию к текущему порядку вещей, игнорируя победоносные вихри вакуума. Практический рассудок увлеченно раскручивает свою механику, а с каждым его достижением все лукавее разветвляются лабиринты. Уму пособничает интуиция, она предпочитает не смотреть в упор, у нее своя тактика (не дедукции, а откровения), она не выводит, а предугадывает то, что ей фатально пред-стоит, предпослано. С учетом их специфики, и интуиции, и рассудку даются материал и методы его освоения для создания многоярусных капитальных сооружений или размытых мозаик, которые, совместно или порознь, монотонно ретируются в гибельные туманности за горизонтом. И только очень глубокий ум и сильная интуиция подозревают, что они, то соперничая, то помогая друг другу, переливают из пустого в порожнее.
Хранилища продуктов анализа и синтеза пополняются. Алчущий света может досыта натешиться его имитациями в дымке архивной пыли, и настанет удушающий момент, когда он захочет вырваться на свежий воздух, под звездное небо, которое не всколыхнули ни чад разлагающихся структур, ни пафос добрых намерений и ни одна доктрина. И может, разбуженная древними позывными созвездий, взыграет генная память современного искателя, нагнетая восторг и ужас пещерных пращуров, и выплеснется его устами в чуткую тишь эфира молитва первых людей, уже вобравшая в себя всю непогоду ментальности.