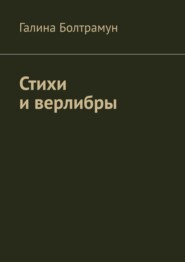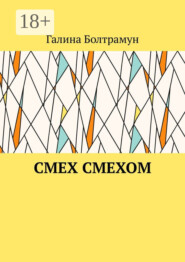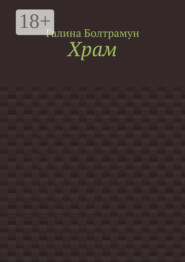По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Эссе. Новеллы. Миниатюры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так за что бьются поборники различных углов зрения и точек отсчета, повсюду рассредоточенных на низинах и возвышенностях планеты? Развитие интеллекта тоже реагирует на моду, чувствительно к поветриям эпохи, колебаниям информационных потоков и, пожалуй, заоблачных атмосферных фронтов. Солидные принципы и основы, а также виды эпатажной беспринципности подвержены износу и старению, и в подходящий момент является отчаянный пророчествующий вождь и с жаром демонстрирует новейшие тараны для взятия старинных крепостей истины. На вооружение может браться самая разнообразная техника. Некоторые проводники населения в царства обетованные предлагают очистить сознание от традиционных установок, правил науки и логики, чтобы воспринять вещи якобы непосредственно. Подобные эксперименты до какой-то степени возможны, и они проводятся. Тот, кто свободен от изнуряющей добычи хлеба насущного, может натренировать мозг и волю игнорировать известные свойства предметов, законы их функционирования и взаимообмена, чтобы материальные явления, в совокупности и по отдельности, показали себя с какой-то необычной стороны. Результат можно сравнить с состоянием дикаря, никогда не покидавшего джунглей и впервые увидевшего кофемолку, компьютер, автомобиль. Для него эти механизмы будут означать нечто не сопоставимое с их ролью в цивилизованных регионах.
А чем, собственно, чревато или полезно какое бы то ни было нестандартное видение всех этих вещей-не-в-себе, и стоит ли к нему стремиться? Что изменится, если при созерцании дерева не припомнится школьный курс ботаники, а кирпич предстанет не строительным материалом, а, допустим, красным или белым сгущением галактических эманаций или мазком художника из любимого медиумами параллельного (или перпендикулярного) мира? Так называемое непосредственное восприятие ничем по сути не отличается от выводов рассудка; как бы ни напрягался человек, осваивая все новые пласты фактичности, он имеет дело только с модификациями своих чувственных образов. Кажется, что, задействовав по максимуму проницательность, опыт и фантазию, немало можно откопать неожиданностей в прикомандированных к юдоли объектах. Но все дело в том, что это данности с такой родословной, что лучше бы их поскорее забрала назад рука дающего. Что представляет собой якобы самостоятельный предмет, если он меняется от способа его изучения? Ничего не представляет. Его нет. То, что поистине существует, не зависит от институтских расчетов, дилетантских просчетов или технологии переоценки ценностей. А зондирование на все лады и допросы с пристрастием фантомных явлений ни на йоту не продвинут исследователя на пути онтологического постижения мира. Воз и ныне там, где он застрял в эпоху наскальной живописи и охоты на мамонтов.
Здешняя жизнь, какой бы мизерной и механической она ни была, ощущает себя в меру своих возможностей и тщится как-то разобраться с тем, что с ней фатально и неотъемлемо соседствует. Таким образом, постоянно совершаются акты познания на примыкающих к уму и сердцу территориях, где, будто бы в насмешку, начала переходят в концы и наоборот, где хаотично пересекают один одного герменевтические круги, усложняются антиномии, избежать которых можно, только сведя мышление на уровень «святой простоты». Плоды изысканий научных центров и академий служат наращиванию показательной информации, тешат тщеславие рассудка, но ничего не дают душе, которая неизменно видит дамоклов меч над любым очерчивающимся силуэтом зрения или умозрения и, за неимением лучшего, довольствуется пустотой.
Непоправимо аномально все то, что, развиваясь, синхронно разлагается, уступая место такой же, несколько модернизированной, никчемности. Смертность – это атрибут небытия; существо, подвластное смерти, не имеет ни малейшего понятия о жизни как таковой и не в состоянии делать заключения, соотносимые с подлинным бытием. Тем не менее извилины под черепом не устают напрягаться, накаляются, развертывают заложенные в них шифрограммы и выдают на-гора летучую продукцию. Некоторые концепции обретают быструю популярность, молниеносно распространяются по континентам, живут несколько лет или десятилетий и забываются. Есть долговременные учения с отпечатками катаклизмов и доминант не нашей эры. Так ли уж велико между ними различие? Марк Аврелий заметил, что если предстоит умереть, то какая разница, сколько жить – сто дней или сто тысяч лет.
В таких условиях нищета философии – неизбежна и необорима. А что означает ее блеск, то слабо, то более интенсивно прополаскивающий абзацы и строки? Ничего не означает. Он призван не генерировать смыслы, а сиять, он распознается избыточной дальнозоркостью, но не проступает на обычных полях зрения; нет, это не лучезарные знамения надежды в конце тоннеля под названием юдоль, это приглушенные люксы, оторвавшиеся от некой разновидности Того Света, не понятно, дружеского или нет по отношению к человеку. Может, эти пустынные проблески намекают о возможности спасения, а может, призывают к гибели, пронзительно возвещая, насколько выше и прекраснее небытие карикатурных бдений и нешуточных тягот рода людского. Чаще всего кажется, что эти два мотива переплетены и сопрягаются с веяниями гипнотического лиризма, беспредметной восклицательности.
Только в юности можно страстно метаться от одного откровения к другому, трепетать, касаясь очередного фолианта в роскошном переплете или подпольно изданной брошюры, азартно надеясь, что именно тут и зарыта собака, на которую опираются небосвод и все непреходящие ипостаси Универсума. С годами набирается опыт взаимодействия с магнетизмом письменности, мучительно вызревает понимание, что книга – сомнительный учитель в жизни и никакой посредник в смерти, что далеко не все то, что именует себя философским, содержит хотя бы легкие штрихи этой рвущейся в трансцендентность стихии. Однако такое выстраданное понимание не уменьшает силу любви к мудрости. Не поддающаяся дефинициям и наставлениям философия, древняя, как миражи Сахары, и юная, как сегодняшний рассвет, будет щедро поить алчущих воскресения своими бальзамами и ядами до момента сдачи двух наших эр в какой-нибудь межгалактический архив. Пока шевелится дыхание в телах, всегда будет небольшое количество рук тянуться к солидным или обшарпанным обложкам с названиями, содержащими магический корень -soph-.
Философия не одаривает сокровищами своих рыцарей и не излучает спасительную для мира красоту, она и сама – непонятно что, балансирует на призрачных стыках бытия и небытия. Ее специфичный стиль и методологические вольности, несводимость к «чистому опыту» и «протокольным предложениям», ее неподверженность верификации насыщены собственной правотой. Эта правота не может найти и не ищет подтверждения в сферах естествознания с его плоским детерминизмом и фетишизацией счетчиков, датчиков, мониторов и луп. Те, что пытаются приучить философию функционировать по законам позитивных наук, воспринимают лишь некоторые ее внешние аспекты и не чувствуют ее ни к чему не сводимой сути. Философия, в какие бы уголки она мимоходом ни заглядывала, всю мощь проницательности направляет в бездны, и они (вспомним знаменитое изречение) то приглушенней, то звонче какими-то гранями своей гомогенности в ней отражаются. В подлинном философствовании не бывает второстепенных проблем, все они одинаково подшиты «мировой скорбью» и неисчерпаемостью. Как между строк возникает вакуум или дыхание внеположных естеству субстанций – навсегда останется загадкой. Уже стало банальностью из-за частого упоминания заявление авторов о том, что их пером кто-то водит как бы помимо их собственной воли. Да. Тот же, кто водит светила по их орбитам, производит сцепление безысходности и перспективы, организовывает перекличку между атомом и Атманом.
Ценность философии (если об этом вообще уместно вести речь) не в сумме добытых знаний, которые имеют вероятностный характер и, накапливаясь, никогда не отменят некомпетентность подданных провального царства, где гибель искони заявила претензии на все их абстрактные и физические успехи. «Человек есть нечто, что следует преодолеть», – прокламировал Ницше.
Если землянину суждено превозмочь свой кризис, то в итоге окажется не сверхчеловек. Сверхчеловек в каких угодно ипостасях – это дефектное изобретение страждущего интеллекта при содействии дерзновенной и подслеповатой интуиции. Любой идеал, который можно помыслить, прочувствовать, вытащить из подсознания, – это элемент принудительной посюсторонности с ее тупиками и катастрофами. Все, что в какой-то мере доступно людскому племени, заражено противоречиями, уязвимостью и обреченностью и не может служить делу освобождения узников из сетей материи и мистерий. Каждой единице подлунных множеств уготовлена встреча с чем-то совершенно иным. Для полного преображения или такого же полного поражения?
Ценность философии (если это ценность) в том, что в ней как будто сквозит приветствие посвященным, напоминание о вопиющей неуместности нахождения в ареале апокалипсического зверя. Непостижимым образом в энергию философской эксплицитности вплетается непроявь – беспримерная нещадная чистота, дезинфектант, нейтрализующий злокачественное брожение интриг и страстей, зауми и мракобесия, инстинктов, гормонов, секреций. Какой-то не обнаруженный биологией и психологией компонент в человеке, леденея от страха, ждет вторжения этой чистоты и, несмотря на яростные протесты воли, снобизма и мозга костей, уже присягнул ей на верность. Убийство ложной самости произойдет, тут не приходится сомневаться. А будет ли воскресение? И в лоне ли бытия?
А если земной мир подлежит окончательному уничтожению, то для чего была организована эта презентация во времени бесцельных одержимостей? И зачем в таком случае щупальца вечности ворошат пласты немотствующих безымянных залежей в душевных тайниках, словно прибирая к рукам свою собственность? На вопрошания такого рода правильными будут лишь ответы, данные на языке бесконечности, то есть не предназначенные для слуха землян. Но, не надеясь на ответ, вновь и вновь в какой-нибудь точке планеты разбуженное удивлением существо, вожделея несбыточного, под аккомпанемент ужаса сформулирует на свой лад и выплеснет в бездну наболевшие «проклятые вопросы». И так впишется еще одна страница в историю философии.
О подлинном или мнимом преимуществе духа
С незапамятных времен обществоведами различного толка, антропологами, антропософами, мизантропами и рвущимися в сверхчеловеки все земляне явно или завуалированно подразделяются на два неравных сорта: на массу (подавляющее большинство), выступающую, несмотря на внутренние разлады, монолитно, и малое количество индивидов, отмежевавшихся, насколько возможно, от государственных программ, публичного энтузиазма, культовой лихорадки и неспособных договориться даже между собой. Наиболее часто эти две составляющие рода людского пристрастно именуются как посвященные и профаны, гений и толпа, поэт и чернь. Утихомирим эмоции и возьмем нейтральные определения: человек духовный и человек природный. Назовем первого метафизиком, второго – прагматиком, не привязываясь сильно к значениям этих терминов, просто для удобства.
Начнем с прагматика как типичного представителя народонаселения. Он уверен, что живет в реальности, и не допускает альтернативных состояний, уравновешивает права и обязанности, растит потомство и знает, что к чему и почем в городах и весях отчизны и за ее рубежами. Данная среда обитания кажется ему единственно возможной, неотвратимой, все явленное принимается на веру как само собой разумеющееся. При подходящей ситуации прагматики не прочь поплавать по волнам яркой остросюжетной мифологии, наметить прогрессивные цели человечества; некоторые из них искренне пытаются облагородить будни идеалами, но это обязательно должны быть идеалы, не угрожающие психическому здоровью, пищеварению и хорошему настроению. Прагматик инстинктивно реализует себя как часть природы, функционирует как орган ее многосоставного организма, испытывая радость от удовлетворения физиологических и прочих потребностей, выплеска энергии в жестоких схватках, от прилива сентиментальности или отлива напряжения. Никогда естественные люди не мыслят отъединения от естества, слаженная ментальность не содержит точку зрения, с которой можно было бы подвергнуть сомнению фундаменты и ценности данного жизнеустройства, «здесь-бытие» для них безоговорочно и священно, в нем – альфа и омега, назначение и судьба всего сущего.
Установки заурядного сознания вызывают у метафизика крайнее изумление, граничащее с презрением. Как можно, даже при отсутствии острого ума, игнорировать вдающуюся во все предметы потребления и поклонения бесконечность, ее непостижимость и пугающее молчание? Как можно планировать, рассчитывать и вдохновляться в мимолетной жизни так, как будто ей нет конца? Иногда пораженный неувядаемым беспочвенным оптимизмом, фонтанирующим на всех полях битв и деятельности, метафизик подходит к прагматику с элементарными вопросами, которые, казалось бы, сами напрашиваются, например: «Зачем существует наш выморочный мир и почему он так устроен?» Прагматик часто отвечает: «Он таков от природы». «Но почему же он от природы именно такой, а не иной, и почему ему назначено быть, а не ничтожествовать?» Верующий наивный человек может процитировать известного церковного авторитета, неверующий упомянет ходячие наукообразные штампы, чаще всего невпопад, оба отвечают из вежливости и желают, чтобы их поскорее оставили в покое. Их раздражают сами попытки исследования типа «что есть дерево или комета?», ведь ясно, что это дерево и комета. «Для чего мы здесь, на каком основании мы можем доверять чувствам и умозрению при анализе действительности?» – не унимается метафизик, которому удается завязать беседу, но вскоре его пыл иссякнет, растекаясь по глухой стене антагонизма. Догадались, что произойдет, если затеять широкомасштабные опросы в таком ключе? Правильно, вопрошающих постигнет участь Сократа.
Сроднившегося с законами экономики и обрядности обывателя не трогают ни выпады агностицизма, ни обороты фондов гносиса, ни даже закат Европы и остальных материков, он с энтузиазмом вращается в своем круге, радиус которого приравнял к астрономическим величинам, и верит в незакатность своей звезды. Если такой человек посвящает себя науке или искусству, то это всегда позитивная наука, опирающаяся на факты и приводящая к утешительным выводам, или жизнеутверждающее искусство, что, независимо от муссируемой проблематики, не замахивается на достоинство подлунного мира как такового. Эта безразличная к веяньям трансцендентности утилитарность – обязательное условие сохранения общества, сменяемости поколений, движения вперед с попутным ветром истории под штандартами злободневных идеологий. Радиация философских постулатов смертельно опасна для нестареющих трех китов, на коих зиждутся трюизмы и маразмы Земли, поэтому лишь малая доза фатального облучения проникает сквозь охранительную оболочку над плодородящей почвой. Отношения естественного человека с гипотетическим потусторонним миром исчерпываются соблюдением церемоний, установлением табу, разработкой праздничных сценариев, одеяний и причиндалов. Прагматик живет в «теперь» так, словно никогда не закончится пир инстинктов, и, дыша на ладан, печется о том, как будет выглядеть в гробу в часы ритуала, дает распоряжения по организации своих похорон, скрупулезно делит имущество между родственниками. Каждой клеткой угасающего тела и мозга он здесь, мысли будут фокусироваться на привычных вещах до тех пор, пока не затвердеют жилы. И кажется, что у его изголовья стоит простоволосая мать-природа и заслоняет недрогнувшего питомца от непогоды надвигающихся бездн.
Метафизик знает, что природа – иллюзия, также как и функции, медико-биологические стандарты и обескураживающие сюрпризы его собственного организма. Конечная бессмысленность научных изысканий и самопознания в ограниченной, замкнутой системе, где не вскрываются даже внутренние тупики, доводит его до отчаянья. Его одержимость всеохватной грандиозностью Абсолюта не позволяет отнестись всерьез к сутолоке скоропортящихся явлений, образующих причины и поводы для жалкого гуманизма и потрясающей бесчеловечности. Платон говорил, что все, кто отдавался философии, не делали ничего иного, как готовились к умиранию и смерти. Вне зависимости от степени подготовки смерть вступает в игру в любом акте трагедии или комедии, рывками или плавно перетекающих друг в друга на пышно декорированных континентах под синим балдахином. Прагматик инстинктивно убежден, что пресловутая дама с косой до него не дотянется, а чаще он ничего не намерен на этот счет полагать, так как ему некогда заниматься подобной чепухой, у него всегда важные дела.
Не откликающийся на директивы и приманки эпохи метафизик улавливает нечеткие позывные «мировой души» и страдает от того, что им невозможно следовать, посвящает абстрактным объектам своего обожания ночные бдения и трактаты и опускает тяжелые веки, когда на полотнищах зари проступает скользящий профиль демиурга. Этот владыка играет подъем и отбой на подчиненных ему территориях, его сатрапы создают условия для подвигов и трюков, его музы муссируют вдохновение наряду со зловещими сивиллами, массирующими печенки. Этот наместник Хроноса возводит империи и насаждает императивы для демократов и автократов, циников и лириков, ортодоксов и рецидивистов. Однако не в его власти погасить проблески инобытия, неуловимые энергии, от которых питаются рвущаяся за горизонт дальнозоркость, сверхопытные идеи, беспредметные установки, спекулятивная поэзия, культивирующая безо?бразность в образах, содержащая элементы надмирной патетики и порывы к саморазрушению.
Общеизвестны и даже набили оскомину сетования адептов высокого глагола насчет чрезмерного иммунитета к нему человеческих сердец. А насколько высок этот глагол? Подлинно пресуществляющим может быть лишь слово из небесного лексикона; даже феноменальные варианты земной словесности – недостаточны и несказанно грезят о самопревосхождении. Риторика метафизиков не пошатнет константы социума, потому что она асоциальна по сути, лишена солнечного веселья, соли земли, ее крови, соков и пота; строки извиваются, перехлестываются, выходят из себя с единственной целью – втянуть и пропустить между букв космический сквозняк. От этих веяний и прочих аномальных неатмосферных осадков защищены головы тех, кто радостно и бездумно изживает себя в отраслях промышленности и объятиях шоу-бизнеса.
А «слушатели слова Божьего»? Действительно ли оно к ним обращается? То, что им слышится, сводит на нет всю видимость, но не имеет определения и не дает надежды. Чего достигает индивидуум, покинувший родное стадо и последовавший за еле внятной дудочкой духа? Пробуждается, ощущает кошмарную обманчивость окружающей обстановки и, снедаемый порывами томящих интенций, продолжает избывать себя, и при этом осознает весь ужас своего положения. Прагматик, чей кругозор оторочен столпами материализма и освещается марочными лампами прогресса, расценивает тягу к запредельности как безумие, и он прав, что с позиций здравого смысла она не объяснима.
Опаляемый многофазным током отчаянья метафизик на пике истомления высказывается иногда в таком роде, что завидует крестьянину, возделывающему нивы и умеющему выразить в песне всю свою незамысловатую горько-сладкую долю. На деле же он не променял бы своей неустроенности не только на сельские заботы и отрады, кулачные бои, щемящие распевы и частушки, но и на несметные сокровища, добытые всеми правдами и неправдами планеты.
Прагматик не в состоянии поколебать умозрение метафизика и пристрастить его к интригующим зрелищам, запаху домашнего уюта или мелодиям полковых оркестров, а метафизик не может предъявить природному человеку бескачественные феномены, порожденные беспримерной динамикой над- и подсознания. Оба, накапливая неповторимый взаимоисключающий опыт, движутся в одном направлении к последней границе, за которой – гипотетическая безграничность. Если будущая жизнь земным обитателям уготована, важно ли, с каким багажом подходят они к роковой черте? Может, и важно. А может, и нет.
Ответственность живой единицы за свои поступки предполагает наличие у нее свободой воли. До какой степени спросится с того, кто лишен этого дара? В подавляющем большинстве люди считают, что обладают самостоятельным волением, потому что имеют желания и возможность выбора. Так ли это? Если, допустим, кому-то будет предложено выбрать себе букет цветов и он предпочтет желтый, то проявление свободы здесь только внешнее. Желтый цвет нравится этому человеку, он его притягивает, и притяжение это невозможно обосновать. Так же обстоит дело при выборе профессий, веры, вида развлечений и всего остального. Биологическое существо не в состоянии преобразовывать или удалять свои инстинкты, фобии, умственные задатки и душевные склонности. Ими насильственно наделяются при появлении на свет и метафизик, и прагматик, причем каждому отводится диапазон, в котором он может несколько маневрировать, менять привычки, шлифовать талант или практические навыки. Рожденный ползать, например, способен развивать скорость, совершенствовать хватку при покорении скользких объектов, адаптироваться к песку или снегу, но он не поднимется в воздух. Однако и данных в любой сфере жизнедеятельности потенций достаточно, чтобы создалась видимость проявления инициативы, возможности выбора, выковывания гражданином своего счастья. А на самом деле каждый любит то, что ему любится, и стремится к тому, что его влечет. Некий отлаженный свыше конгломерат сил притяжения формирует совокупное напряжение Земли. Вот и вращается наэлектризованный шар по заданной орбите, наматывая километры и проматывая жизни на своей поверхности, пока не прикатится со всеми иконами и мамонами на Страшный суд или не закатится за грани небытия.
Чему равняется квота ответственности и неповинности как мучеников духа, так и потакателей тела в безвыходной зоне заточения? В каких единицах могла бы она измеряться? Не родится такой мудрец, чтобы дать ответ. Каждый бытующий под солнцем принужден к договору с князем мира сего. Ни один здешний титан не проторит пути искупления ни братьям по несчастью, ни самому себе. Это под силу лишь Тому, в чьей власти очерчивать и раздвигать горизонты в бесконечности.
Все обретенное и выстраданное в суматохе будней является их достоянием и исчезнет вместе с последним закатом; прогресс и эволюция – это взаимодействие, конкуренция, баталии и парады ипостасей тщеты. Те, кто нашел благополучие и надежду в таких условиях, – дети времени, они не в состоянии ни осмыслить свое положение, ни представить проблему освобождения во всем ее величии и ужасе. Улыбчивым идолам удается отвратить взоры масс от предстоящей Судьбы и тешить их примитивными усладами в паузах между боями за вящую славу владык или передел капиталов. Небо не спешит сжалиться и прекратить вопиющий эксперимент. Что ж, ему виднее с высоты.
Прагматик умудряется сплавить свои дни, (перефразируем классика) нисколько не удивляясь звездным сонмищам над головой. Он с гордостью внимает торжественным рупорам, восславляющим достижения homo sapiens, и с упоением читает опусы о техногенном счастье грядущих поколений. Не важно, что ему самому этого пресловутого будущего не достанется. Естественный человек с удовольствием реализует свою долю пешки на поле вторичных событий, он всецело поглощен потоком сиюминутностей, вибрирует в унисон с его приливами и отливами и, не замечая этого, легко отдастся волне, что сметет его за край небосклона.
Тот, кто провидит зомбированность сознания, не выходит, как и прочие, из подчиненного состояния, однако, играя свою роль, всегда чувствует направляющую руку закулисного кукловода. Эта десница – железная, никто не сместит расставленные ею акценты в развитии сюжетов, которые сводятся к вариациям отношений господства-угнетения. Немногие упрямые одиночки, кому посчастливится избежать вульгарных внешних конфликтов, запутываются в коллизиях собственного Я. Внутренние бури выносят наружу клубы пафоса и отчаянья, что, обретая форму и поддаваясь сублимации, творят и питают культуру.
Как милость Творца можно расценить тот факт, что заложникам страстей и напастей назначен недолгий срок. Зачем-то должен человек познать вкус никчемности и унижения. Прагматик не виновен в том, что он не снабжен рецепторами для восприятия импульсов Вездесущего и тратит себя без сожаления на потребу официозу и демографии. А метафизик не заслуживает похвалы за свою относительную проницательность, он получил ее даром; по каким-то мотивам он наделен качествами, отличающими его от окружения. Но имеет ли человек духовный, изъязвленный щупальцами безродных экзистенций, хоть одно реальное преимущество? Находится ли он ближе к трону мироздания, чем его беспечные соплеменники? Любое допущение останется без доказательства. Все гипотезы об иерархиях и установлениях космических миров – это лишь недалекие выверты нашей фантазии, симулякры на глиняных ногах.
А коль скоро тщетны усилия выйти за рамки понятий и представлений и перед всеми одинаково рисуется сумрак неизвестности, не лучше ли провести отпущенный период в свое удовольствие, не растравливая неизлечимые раны в эксцентричной самости? Может, и лучше. Но, как говорится, каждому свое. Разум никогда не прельстится дешевыми развлеченьями, единственная отрада для него – укрыться как можно дальше от ярмарочного оптимизма. Если сущность индивида имеет отверстость, он ни за какие блага не захочет залатать ее непрочными тканями естества (да это и невозможно). В эту прореху втекают флюиды невоплощенного, и душа цепенеет от ужаса, сознавая, что ей не вместить бесподобную грандиозность и надо расширить себя до неимоверности. Будет ли при этом боль выносимой? И что именно должно свершиться?
Индивид, пораженный тоской по вечности, – одинок, ему не суждено слиться с лигами и кликами, чтобы синхронно содрогаться в экстазах и проказе и совместно переработаться в прах. Его мельница – всегда на отшибе.
Естественному человеку, напротив, не знакома жгучая динамика духа, он изначально сращен с антуражами кажущейся реальности, призывы опомниться и осознать себя он воспринимает как выкрики сумасшествия. Значит ли это, что у него нет души, что его никогда не окликнет божественный голос и он уплывет в никуда вместе с фантомами времени? Ни одному смертному не дано знать.
Метафизик всеми фибрами эго и суперэго нацелен на выход за пределы иллюзорной объектности, мнимых величин, психических комплексов и лирических ракурсов. Он необратимо сопряжен с таинственной потусторонностью, является ее корпускулой? ставленником? краткосрочной забавой? В любом случае эта связь живая, она – единственное подобие жизни в земной атмосфере. Означает ли это, что Абсолют по-особому расположен к людям такого склада и призовет их к себе? Нет ответа. Вымыслы на эту тему всегда непривлекательны. Никто не уполномочен выступать с заявленьями и трактовками от имени Абсолюта. Однако каждому в отдельности придется выяснить с ним отношения. Результат не только непредсказуем, он ни в коей мере не соотносится с масштабами человеческого сознания и станет очевидным, когда человек прекратит быть таковым.
Проблема зла и теодицея
Зло как морально-этическая категория, могучий выплеск мировой ночи и неотъемлемая составляющая каждодневной рутины исследуется, видимо, с тех пор, когда в человеке проснулась потребность осмыслить окружающее и самого себя как единицу в гуще таинственного многообразия. Уже первобытные общества вводили табу и на дымчатом фоне регулярных жертвенных закланий пытались разобраться, «что такое хорошо и что такое плохо»; с тех каменных и железных эпох никому не удалось окончательно разграничить эти сложносоставные явления и не путать черное с белым. Как было в доисторических потемках, так и ныне в электрических излучениях пагубная роковая стихия руководит всеми практиками, идеологиями и утопиями; посягнуть на ее господство не под силу ни лигам наций, ни храбрым диссидентам. Специально и настойчиво интересующиеся данной проблемой, конечно, осведомлены, как трактовали этот врожденный порок всех сердец Плотин, Блаженный Августин, Спиноза, Макиавелли, Лейбниц и многие другие, включая наших современников. И, наверное, каждый прочитавший Библию запомнил, хотя бы в общих чертах, сетования Экклезиаста:
«И еще довелось мне увидеть под солнцем, что не быстрым удача в беге, не храбрым – в битве и не мудрым – хлеб, не разумным – богатство и не сведущим – благословенье, но срок и случай постигает их всех.
И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!
Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда.
И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет.
Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это – суета!»
Такие вот константы эволюции, обрастающие в каждом веке злободневными переменными. Свидетели и служители научно-технического прогресса могут добавить к этому классическому причитанию множество припевов, сложенных под влиянием индустриальных успехов, фармакологических побед и наркологических поражений. К чему бы ни сводили идеологи и аналитики окаянство земного уклада, оно намертво стоит на своем; и, несмотря на обилие четких аргументов и смутных гипотез, логических выкладок и казуистичных вывертов, приходится вновь и вновь угнетенно констатировать: фатальная греховность совокупной динамики под облаками намного шире ее объяснений. Как бы ни интерпретировались обыденные и чрезвычайные изъявления злополучия и злорадства, все трактовки – лишь забава, если вражда каждого против всех не сбавляет обороты, оттачивая и разветвляя по ходу истории свои формы и виды. Кроме того, слишком глубоко зондировать эту тему страшновато, так как уже при первом серьезном приближении проглядывает интимная и неразрывная связь между любовью и ненавистью, а напрашивающиеся выводы могут навсегда отбить желание заглядывать в подоплеку тенденций и пертурбаций.
В среде богословов – профессионалов и любителей – периодически создаются апологии царящего порядка; имеет место, в частности, такое мнение, что зла не существует, что оно есть мера небытия и отсутствие добра. Манипулируя приемами теологической софистики, мифотворчества, науки и псевдонауки, можно сконструировать немало то голословных, то баснословных теорий насчет этой холерической силы; бумага, как известно, всё стерпит, а чахнущим под ударами конкретных бедствий бумажные мудрости не принесут ни малейшего облегчения. Вряд ли и прямолинейных ортодоксальных верующих миновала чаша сомнений, нельзя не задуматься: зачем (по их определению) всеблагой, справедливый и любящий Бог допускает жестокость и вероломство? А откуда эта аксиома, что Бог есть любовь, доброта и милость? Н. Бердяев: «Человеческая совесть не может вынести бесчеловечных, не духовных и не моральных свойств, почти зверских свойств, приписываемых Богу, Творцу мира». Конечно, нелепо приписывать Богу зверские качества, но то, что Он бесчеловечен, – понятно, ибо Он не человек, следовательно, относится к нам со своих позиций, а не с общественно полезных. Только Он знает, какое место в Универсуме занимает вертлявая планета, суетливо адаптирующаяся к своей непроизвольности, и чего стоят на ней завихряющиеся дымы святотатства или чинные ароматы ладана и елея.
Проблемы зла на всех уровнях социального развития и застоя часто формулируются в корне ошибочно и не отображают фактическое положение вещей. Дело не обстоит так, что зло действует в мире, который хорош или нейтрален, и заражает его отдельные составляющие.
Допустим, объявился бы волшебник и устранил бы те пороки, что на первый взгляд зависят от намеренности людей (эксплуатация труда, войны, алчность, неблагородное поведение и господ, и рабов и т. д.). Оставим в стороне вопрос, возможны ли вообще в такой ситуации развитие производительных сил и так называемый прогресс. Предположим, люди научились обеспечивать себя материально и развлекаться, не поедая друг друга, создав атмосферу относительного благополучия и взаимопомощи. Безусловно, жизнь стала бы уютнее, безопаснее в бытовом плане (что тоже важно), однако на этом фоне еще острее обнажились бы клыки зла непобедимого: диктат физиологии, позорная подчиненность року, случайностям и закономерностям, гравитации и естественному отбору, всеобщая взаимосвязанность, болезненная порча телесных и ментальных компонентов личности по мере продвижения к финалу, за которым – пугающая неизвестность.
Сама действительность, что распадается на неуловимые элементарные частицы, изображает себя в виде грандиозных космогоний, будучи совокупностью агоний, – абсурд. Огромное несчастье – обретаться куском уязвимой плоти, покоряясь голосу крови, воплощать кризисы веры, казусы настроения, ребусы суеверий. Еще большее несчастье – иметь автоматный ум, группирующий и дифференцирующий сомнительные реалии, с ужасом провидящий бесконечность регресса обоснований и неизбежность снятия всех своих выводов и озарений. Одинаково чудовищен и смехотворен закон, по которому все зародившееся, куда бы оно ни устремлялось, движется к своему концу. С другой стороны, все известные жизнеформы настолько неудовлетворительны, что даже в мыслях страшно допустить их бессмертие, а круговорот веществ и существ в отчей природе сопровождается такими трениями, что при наблюдении этих процессов часто обуревает радость, что «и это пройдет».
С приурочением к знаменательным событиям или просто с целью планомерного этического просвещения населения то с трибун, то с амвонов озвучивались концепции о том, что Бог дал человеку свободную волю, чтобы тот мог самостоятельно выбирать между добром и злом. Даже при наличии у гражданина и прихожанина свободной воли и при очевидном присутствии несомненного блага на равнинах и кручах ойкумены вопрос по сути не изменился бы: зачем нужен этот выбор, почему на дороге у путника обязательно должна быть возможность оступиться и упасть?
На деле, никакой философский камень не поможет выделить из земных элементов однозначное добро, а свобода воли или предпочтения – это сигнификат, не имеющий под собой никакого денотата, проще говоря, – шелест лексических единиц, пьянящий рассудок. Свобода не может реализоваться в природе; все, что укоренено в тенетах естества и поддерживается его секрециями, – зависимо, детерминировано.
И в академических, и в популярных сочинениях часто мотивы государственных и личных поступков пытаются свести то к воле нашептывающих демонов, то к «эдипову комплексу», то к производственным отношениям и политическим институциям, что всегда является упрощением, случайной и неверной номинацией мирообразующих стихий, работающих на непонятные для общества и индивидов цели. Ментальное пространство человека искривлено таким хитроумным способом, что из-под выводов постоянно ускользает достаточное основание, а исключенное третье вместе с шестым чувством нагнетают из сослагательной заочности мистические пары, что мутят тавтологическую воду, из которой по большей части состоят все рассуждения.
Эта наглухо запертая колония для нас – всё, иные виды варварства и немощности, не говоря уже о способах бытийствования сущего, нам не доступны и не известны. Свободой в здешних узких рубежах считается право переместиться из пункта А в пункт Б, поменять род занятий или проголосовать за тирана. Для многих свобода – это социальные привилегии или вовсе необузданность поведения. Споры о вероятности даже теоретического самостояния в принципе бесплодны в силу разного понимания этой категории оппонентами, несопоставимости их кругозоров, духовных ландшафтов, притязаний эгоизма или напряжений инсайта. Согласие затруднено и между выдающимися личностями, не отождествляющими грубую работу инстинктов с возможностью ничем не обусловленного принятия решения (вспомним хотя бы знаменитую дискуссию между Лютером и Эразмом Роттердамским).
Для чего Бог, который властен творить в масштабах полного благополучия, создал мучительные бдения в условиях скоротечности и бесперспективности? Такие деяния Всевышнего кажутся недостойными Его величия. Самозваные миссионеры и глашатаи священного света нередко вынуждены констатировать его явные темные выплески и, чтобы реабилитировать Творца, смело берут на себя роль адвокатов Божьей мудрости и составляют пламенные панегирики, которые, подлаживаясь друг к другу, складываются в общую теодицею. Употребление термина «теодицея» (богооправдание) связано с опубликованием трактата Лейбница «Опыт теодицеи о благости Бога, свободе человека и происхождении зла» (1710), где он старался доказать, что Бог справедлив и благ, несмотря на хронические триумфы козней и лицемерия в хижинах и дворцах, на форумах и в будуарах.
Только наивный вероисповедник может полагать, что торжествующее зло – это изобретение людей, которые не соблюдают заповеди богов своих религий. Внимая разношерстным нотациям на эту тему, с тоской задумываешься, чего здесь больше: невежественного простодушия или непомерной гордыни? Это надо же! Втиснутый в мясную оболочку бедокур, не создавший в себе ни мельчайшей частицы, не знающий, что с ним произойдет через день, воображает, что способен хозяйничать вопреки Божьей воле! Впрочем, такие убеждения не поддаются осмыслению, они возникают, здравствуют и выхолащиваются вне мышления.