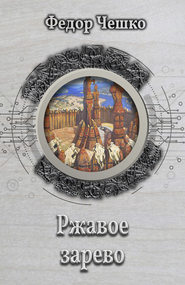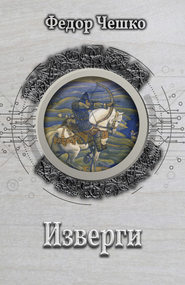По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Между степью и небом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Неподвижный стоялый воздух внезапно и беспричинно ринулся с места вскачь, в оглушительный ураган, изодрал роняемую небом туманную пелену, взорвал-завертел её клочья подобием сумасшедшей пурги… И сквозь мельтешенье бессчётных прорех стремительного туманного месива неистовствующие на кургане силуэты вдруг брызгали то ослепительной белизной (бледный) то воспалённой ржавой багровостью (чёрный)… И уже не понять, сколько их там, на вершине – двое ли, четверо… какие они по правде, какими лишь кажутся…
А вихрь всё креп; под его залихватски-бездумными ударами влёжку стлался ковыль, и казалось, что иглистые метёлки силящейся разогнуться травы да летучие ошмётья тумана шепчут-шуршат еле слышно в бесовском вое и хохоте: “Би-и-итва-а-а! Би-и-итва на с-с-самом верху-у-у! Би-и-итва ли-и?!.”
“Би-и-итва-а-а!!!” – визжал ураган, расшибая о подножье кургана пласты травяной шкуры, выдранные с чёрным мясом земли…
И вдруг всё кончилось. Вихрь, осатанелая пляска туманных хлопьев, рёв да прозрачно-призрачные голоса – всё оборвалось далёкой и злобной вспышкой; и те, вымолачивающие копытами вершину кургана, на миг облеклись подлинными своими цветами – ржавым и безызъянно белым… и на миг же плеснулись от них по низкому небу две тени: бледно-белесая (от белого) и чёрная (от ржаво-гнедого)…
И вдруг кончилось ВСЁ.
…Вешка прятала своё достояние на всегдашнее место – полуотворотясь, старательно загораживаясь от Михаила плечом. Похоже, она считала, будто в самом процессе опускания чего-либо за пазуху (даже при наглухо застёгнутых пуговицах) кроется нечто стыдное.
Михаил понимал, что следовало бы ему проявить деликатность… ну хотя бы зажмуриться, если уж ни на какое более существенное движение не находилось то ли сил, то ли чего-то ещё… Одна беда: проку от этого совершенно правильного понимания оказалось ни на жалкую чуть.
Потому, что логичные действия – совершенно не то, чего следует ждать от человека, все свои силы тратящего на малоуспешные попытки выбарахтаться из припадка вязкого, ни с чем мыслимым не сравнимого ужаса.
Дело было не только (да и не столько) в самом видении… хотя вряд ли, ой вряд ли ЭТО было всего-навсего видением.
Дело было ещё и в том, что Михаил без малейших пропусков слышал и запомнил весь рассказ Белкиной о медной кругляшке: что Вешка помнит чёртову висюльку столько же, сколько помнит себя; что, наверное, она – висюлька – имеет какое-то отношение к потерявшейся Вешкиной семье; что многие детдомовцы хранят всякие-разные мелочи – подлинную или мнимую память о ком-нибудь из всамделишных либо выдуманных родных (ну, положим, о таких делах Мечников и сам преотличнейше знает)… Получается, Михаил одновременно был и тут, слушая Вешку, и там, в невесть какой степи с бурей, курганом, кошмарными лошадьми… А может быть, паморочливое наваждение, окончившись, вплюнуло свою жертву в ту же самую долю секунды, из которой и выхватило, так что Мечников совсем ничего не потерял ЗДЕСЬ, успев при этом побывать ТАМ… Где, где ТАМ?! Господи!!!
А санинструктор, завершив упрятывание своей фамильной реликвии, поднялась на ноги и выговорила – хрипловато, сумрачно, глядя куда-то в сторону:
– Ладно, пойду. А вы всё-таки не спите, пожалуйста…
Она отступила всего лишь на шаг-другой, но Михаилу внезапно примерещилось, будто фигурка Белкиной как-то мгновенно посмутнела и сделалась крохотной-крохотной – словно бы оказалась вдруг в дальней дали, у невозможным образом открывшегося зрению горизонта, и горизонт вместе с нею уходит, уходит, уходит, как он имеет привычку уходить от гонящегося за ним человека… Только ведь человек (Михаил то есть) даже не собирался вспугивать горизонт, гнаться за ним; человека вновь обездвижила млостная одурь предобморочья. Обездвижила. Распяла на боровом малотравном песке. И не спеша, спокойно, со тщанием принялась выворачивать наизнанку.
А потом Вешкина крохотная фигурка вскинула руку к груди, туда, где сердце (и где скрытая гимнастёрочной тканью медяшка-подвеска). Простояв так не дольше секунды, девушка шагнула обратно, к Михаилу, единым махом покрыв втиснувшуюся меж ними бескрайность. И тут же, пряча с глаз горизонт, расписным театральным занавесом обрушился за девичьей спиною мотаемый ветром сосновый мачтовый лес; и тут же схлынуло, отпустило раненого лейтенанта тошнотворное парализующее бессилие…
Слушай, лейтенант, неужели тебе впрямь становится лучше, когда она рядом? Она… Вешка? Или её медяшка? Го-осподи!!!
Остановившись рядом с Михаилом, Белкина торопливо расстегнула воротник, завозилась со следующей пуговицей… Куда только сгинула давешняя девическая сверхстыдливость! Пуговица, наконец, уступила неловким от суетливости пальцам; потом уступила еще одна; в вырезе нательной рубахи блеснула заповедной белизной ложбинка меж основаньями двух невысоких, но крепких холмиков…
– Вот! – Вешка сдёрнула с себя фамильную реликвию (именно сдернула, порвав казавшуюся довольно-таки прочной цепочку) и принялась торопливо заталкивать сдёрнутое Михаилу в нагрудный карман. – Пусть у тебя…
И хоть лейтенанту пришлось прямо-таки упереться взглядом в помутнелую синеву глаз наклонившейся Вешки, он – лейтенант – не удосужился заметить, что синева эта именно помутнелая, что глаза у девушки нечеловечески округлились, что сделались они какими-то отстранёнными, шалыми, “не от мира сего”… Оно понятно: как тут было что-нибудь замечать после услышанного “у ТЕБЯ”! Значит, уже на “ты”… Значит…
Между тем санинструктор выпрямилась, забавно свела к переносице рыжие хвостишки бровей, словно бы пытаясь сообразить, что же это она сделала пару секунд назад. Что и зачем.
– Ладно… – по голосу и растерянному выраженью лица Белкиной чувствовалось: “что” она, кажется, вспомнила, а вот “зачем” – это вряд ли.
– Ладно, я пошла. Дел очень много, – Вешка зашмыгала носом, сразу сделавшись просто-таки неприлично похожей на доблестного командира партизанской разведки. – Караваев у меня очень мучится. Множественное осколочное в живот… Плачет и всё время зовёт, чтоб сидела с ним: говорит, на жену похожа… А как присяду, начинает о яде… Или чтоб наган у тебя выпросила…
Радоваться, слушая такие слова – скотство; но тем не менее Мечников, к стыду своему, именно обрадовался. Хоть рыженькая санинструктор пару минут назад была вроде как пьяная, а сейчас словно бы протрезвела, но протрезвление это не затронуло перехода на “ты”. Михаил стал торопливо придумывать, что бы такое сказать Вешке и при этом вроде бы невзначай тоже ей “тыкнуть” – для окончательной проверки, а то мало ли… Раз уж пошли твориться всевозможные совершенно необъяснимые… чёрт знает, как и назвать-то… в общем, ни во что сейчас нельзя верить с первого раза.
Выдумать что-либо путное лейтенант Мечников не успел: помешали.
– К Караваеву ходить боле не надобно, – проскрипел рядом ворчливый старческий голос. – Преставился Караваев.
Михаил отвалился от своей импровизированной подушки, сел прямо (резко, будто подброшенный, но рана почему-то забыла среагировать).
Это был фельдшер. Причём вовсе не обязательно он подал голос сразу же, как только подошёл; может, уже долгонько стоял рядом да смотрел-слушал, пользуясь тем, что лейтенант с санинструктором напрочь забыли об окружающих.
Вешка, наверное, тоже заподозрила старичка в свинской бестактности. Во всяком случае, девушка полоснула его таким взглядом, что даже Мечникову сделалось жутко. Правда, она тут же потупилась… и словно бы впервые увидела, что гимнастёрка на ней расхристана едва ли не до самого пояса. С заполошным писком Вешка развернулась к фельдшеру спиной и заспешила устранять непорядок в обмундировании. От ушей её, наверное, можно было бы прикурить.
А фельдшер говорил, как ни в чём ни бывало:
– Слышь, дочка… Мы тут с ранетыми помитинговали да вынесли резолюцию: ты нам покудова не нужная. Считай себя в увольнении. Думается, коль без понуканий, то вы двое так и будете страдать да воздыхать тишком друг от дружки. А времени на деликатные канители у вас боле нету. Я этого грузинца, командира вашего, недолгое время знаю, и то… Вот как он полез к тебе очертя голову, мне сразу подумалось: он до завтрева дожить не надеется. И что мы все доживём – тоже… Так что милуйтесь, пользуйтесь остатней минуткой.
Старик замялся на миг, а потом, придвинувшись к Михаилу, шепнул доверительно:
– Только вам, товарищ лейтенант, для разговоров да целования её б в сторонку отвесть. А то кой-кого из армейцев хуже ранений мучают завидки.
3
– …а я тогда была ещё рыжее, чем сейчас; тощая-тощая была и такая длинная, что они сперва решили, будто мне аж семь. И распределили в колонию для умственно-отсталых. Недели только через две разобрались, перенаправили. Вот… А в деткомунне тогда комиссарил бывший боцман. Увидал он меня, и говорит: “Ишь, какой огонёк на шестке – прям те фарватерная вешка!” Так меня Вешкой и записали. А про Великую Школу уже потом придумали – для какой-то комиссии, что ли…
Ни в какую особенную сторонку Михаил с Белкиной не ушли, а только выбрались из овражка и уселись над самым откосом, по обратную сторону раскидистого боярышника. И ни о каком особом “милованьи” друг другом тоже речи быть не могло.
Михаилу казалось, что Вешка то ли не расслышала, то ли умудрилась не понять фельдшерскую обмолвку про “остатние минутки”. Но если теперь лейтенант Мечников позволит себе что-нибудь повольнее душевного разговора да бережного обниманья за плечи, девушка уж непременно догадается… А это не нужно. Никому не будет никакой пользы, если ещё и Вешка станет маяться предчувствием скорой гибели.
Ещё и Вешка… Нет, “ещё и” – это неправильные слова. Михаил, к своему изрядному удивлению, предчувствиями отнюдь не маялся. То есть он не предчувствовал, а был совершенно уверен, что ближайшее будущее остатков шестьдесят третьего полка определено поговоркой “сколько верёвочке ни виться…”, но уверенность эта отнюдь не мучила раненого лейтенанта. Может быть, потому, что за время наступления (именно так: наступления из немецкого тыла к линии фронта) полк успел взять за себя отменно дорогую цену; или, может быть, потому, что Михаила вообще перестало интересовать всё, кроме внезапно открывшейся Вешкиной к нему особой приязни; или, может быть, потому, что таким вот странным образом сказывался изрядный удар по голове…
Всё может быть. Даже то, чего по Михаилову твёрдому атеистическому убеждению быть не могло и не может никогда и ни с кем. Лейтенанта не встревожила даже собственная нелепо-безмятежная мысль о том, что дела нынче пошли определённо колдовские, потусторонние – мысль, которая просто обязана была встревожить именно этой нелепой своей безмятежностью.
Однажды – давным-давно – так уже было с ним.
У него ведь, как и у Вешки, тоже была своя, всеми правдами и неправдами хранимая “фамильная драгоценность”… Впрочем, Михаил и сам-то уже не помнил, впрямь ли его драгоценность была фамильной, или он попросту украл эту штуку, нашел, выиграл, отнял – мало ли как попадают к беспризорной шпане всякие этакие безделки! А сохранил её потому, что понравилась, потому что пацан, которому предстояло захотеть стать настоящим художником, не мог расстаться с подобной красотой даже ради каких-нибудь беспризорничьих роскошеств. Да, вот так: украл, нашел, выиграл, отнял… хранил… И, храня, сам же себя приучил верить, будто бы это последний осколок того хорошего, которое когда-то было… А раз было, то, может, еще когда-нибудь будет…
Задним числом Михаил понимал: только каким-то чудом ему удалось сберечь это свое достояние, протащить “во время оно” через всевозможные допры, санпропускники, распределители, фильтры-приёмники… Наверное, помогало то, что и сам беспризорный Миха, и все, с кем ему приходилось иметь дело, твёрдо знали, как выглядят драгоценные камни – маленькие сверкающие многогранники, которые женщины носят в ушах и на пальцах.
Мишка Мечников успел дожить до пятнадцатилетия, прежде чем нарвался-таки на подлинного знатока. Знаток был сыном ювелира. Ювелиру в силу некоторых обстоятельств пришлось переселиться на Соловки, а потому ювелирскому отпрыску пришлось переселиться в детский дом. Чёрт его, отпрыска этого, знает, как он пронюхал о Михаиловом достоянии и почему заподозрил поживу; но вот пронюхал же как-то, и заподозрил, и с таким великолепным равнодушием в голосе попросил показать, что развесистый лопух Миха…
Через день ювелирский сынок исчез, и Михаилова драгоценность исчезла тоже. А ещё через пару дней в детском доме появился следователь. Беседовал он только с директором да парой воспитателей, а воспитанникам, собственно говоря, никто не объяснял, что этот визитёр штатской наружности – именно следователь и именно из уголовки. Но воспитанники в большинстве своём были детишками тёртыми, умели без запинки произносить выраженьица вроде “уголовно-процессуальное делопроизводство” и “атанда, урки, шухер на бану?!”, а потому ни в чьих специальных объяснениях не нуждались.
Следователь ещё не успел выйти из директорского кабинета, а детдомовцы уже шушукались о том, что беглый отпрыск ювелира вчера найден мёртвым неподалёку от торговых рядов. “Знаешь пивной ресторан товарищества гужевиков? Там рядом ещё подворотня – ну, где в запрошлом году Сохатый порезал Гуню Барбоса? Вот в ней и нашли. Его из шпаллера: впаяли блямбу под сердце да еще третью зенку провертели (небось, уже конченому – для верности). Фраерская работа: с шумом, и бросили по-глупому. Деловые бы надели на перо втихую, камень к ногам – да в Прудянку. Чтоб ни звону, ни вони… А это, небось, батянины подельники решили ему пасть заколотить – побоялись, что по сопливости болтнёт лишнего. И за какой же холерой его, дурня, к ним поволокло?”
Да, уж “за какой холерой” – это мог более ли менее точно разгадать один Михаил. Ювелирский дурень-сынок пытался продать украденное у него, Михаила.
И вот ведь странно: к тогдашней, казалось бы, безвозвратной пропаже Мишка Мечников остался непробиваемо равнодушен. Почему? Да потому, что ни на секунду не усомнился: беда поправима. Причём эта его нелепая железная вера – отнюдь не самое странное в тогдашних делах.
Несколько дней спустя обокраденному Мишке выпал случай безнадзорно пошляться по городу.
Случаем Мишка, естественно, воспользовался.
Ноги несли вырвавшегося на волю детдомовца какими-то малознакомыми улочками; под рваными ботинками чавкала унавоженная дрянная слякоть; усталое серое небо так и норовило прилечь на мокрые крыши… Чёрт его помнит, осень тогда была или ранняя болезненная весна – во всяком случае, Михаил довольно быстро продрог и совсем уже решился плюнуть на всё да возвращаться в наробразовские пенаты, как вдруг…
Крохотная площадь с коновязью и водопойной колодой. На здании, гораздо менее задрипанном, чем соседние, вывеска: “Пивной ресторан”. А неподалёку – чёрный распахнутый зев подворотни. Той самой, где какой-то Сохатый пырнул ножом какого-то Гуню. Той самой, где…
Не отрывая закляклого взгляда от подворотенной черноты, детдомовец Мечников по кличке “Миха” сперва просто торчал посреди площади; затем по-крабьи, бочком передвинулся, слепо прощупывая воздух вытянутой рукой… Дрожащие от зябкости да напряжения пальцы больно чиркнули о коновязное бревно, и Михаил, так и не обернувшись, зашарил по мёрзлому дереву, норовя определить, можно ли на него сесть или только облокотиться. Какая-то старуха, проходя, засокрушалась вслух:
А вихрь всё креп; под его залихватски-бездумными ударами влёжку стлался ковыль, и казалось, что иглистые метёлки силящейся разогнуться травы да летучие ошмётья тумана шепчут-шуршат еле слышно в бесовском вое и хохоте: “Би-и-итва-а-а! Би-и-итва на с-с-самом верху-у-у! Би-и-итва ли-и?!.”
“Би-и-итва-а-а!!!” – визжал ураган, расшибая о подножье кургана пласты травяной шкуры, выдранные с чёрным мясом земли…
И вдруг всё кончилось. Вихрь, осатанелая пляска туманных хлопьев, рёв да прозрачно-призрачные голоса – всё оборвалось далёкой и злобной вспышкой; и те, вымолачивающие копытами вершину кургана, на миг облеклись подлинными своими цветами – ржавым и безызъянно белым… и на миг же плеснулись от них по низкому небу две тени: бледно-белесая (от белого) и чёрная (от ржаво-гнедого)…
И вдруг кончилось ВСЁ.
…Вешка прятала своё достояние на всегдашнее место – полуотворотясь, старательно загораживаясь от Михаила плечом. Похоже, она считала, будто в самом процессе опускания чего-либо за пазуху (даже при наглухо застёгнутых пуговицах) кроется нечто стыдное.
Михаил понимал, что следовало бы ему проявить деликатность… ну хотя бы зажмуриться, если уж ни на какое более существенное движение не находилось то ли сил, то ли чего-то ещё… Одна беда: проку от этого совершенно правильного понимания оказалось ни на жалкую чуть.
Потому, что логичные действия – совершенно не то, чего следует ждать от человека, все свои силы тратящего на малоуспешные попытки выбарахтаться из припадка вязкого, ни с чем мыслимым не сравнимого ужаса.
Дело было не только (да и не столько) в самом видении… хотя вряд ли, ой вряд ли ЭТО было всего-навсего видением.
Дело было ещё и в том, что Михаил без малейших пропусков слышал и запомнил весь рассказ Белкиной о медной кругляшке: что Вешка помнит чёртову висюльку столько же, сколько помнит себя; что, наверное, она – висюлька – имеет какое-то отношение к потерявшейся Вешкиной семье; что многие детдомовцы хранят всякие-разные мелочи – подлинную или мнимую память о ком-нибудь из всамделишных либо выдуманных родных (ну, положим, о таких делах Мечников и сам преотличнейше знает)… Получается, Михаил одновременно был и тут, слушая Вешку, и там, в невесть какой степи с бурей, курганом, кошмарными лошадьми… А может быть, паморочливое наваждение, окончившись, вплюнуло свою жертву в ту же самую долю секунды, из которой и выхватило, так что Мечников совсем ничего не потерял ЗДЕСЬ, успев при этом побывать ТАМ… Где, где ТАМ?! Господи!!!
А санинструктор, завершив упрятывание своей фамильной реликвии, поднялась на ноги и выговорила – хрипловато, сумрачно, глядя куда-то в сторону:
– Ладно, пойду. А вы всё-таки не спите, пожалуйста…
Она отступила всего лишь на шаг-другой, но Михаилу внезапно примерещилось, будто фигурка Белкиной как-то мгновенно посмутнела и сделалась крохотной-крохотной – словно бы оказалась вдруг в дальней дали, у невозможным образом открывшегося зрению горизонта, и горизонт вместе с нею уходит, уходит, уходит, как он имеет привычку уходить от гонящегося за ним человека… Только ведь человек (Михаил то есть) даже не собирался вспугивать горизонт, гнаться за ним; человека вновь обездвижила млостная одурь предобморочья. Обездвижила. Распяла на боровом малотравном песке. И не спеша, спокойно, со тщанием принялась выворачивать наизнанку.
А потом Вешкина крохотная фигурка вскинула руку к груди, туда, где сердце (и где скрытая гимнастёрочной тканью медяшка-подвеска). Простояв так не дольше секунды, девушка шагнула обратно, к Михаилу, единым махом покрыв втиснувшуюся меж ними бескрайность. И тут же, пряча с глаз горизонт, расписным театральным занавесом обрушился за девичьей спиною мотаемый ветром сосновый мачтовый лес; и тут же схлынуло, отпустило раненого лейтенанта тошнотворное парализующее бессилие…
Слушай, лейтенант, неужели тебе впрямь становится лучше, когда она рядом? Она… Вешка? Или её медяшка? Го-осподи!!!
Остановившись рядом с Михаилом, Белкина торопливо расстегнула воротник, завозилась со следующей пуговицей… Куда только сгинула давешняя девическая сверхстыдливость! Пуговица, наконец, уступила неловким от суетливости пальцам; потом уступила еще одна; в вырезе нательной рубахи блеснула заповедной белизной ложбинка меж основаньями двух невысоких, но крепких холмиков…
– Вот! – Вешка сдёрнула с себя фамильную реликвию (именно сдернула, порвав казавшуюся довольно-таки прочной цепочку) и принялась торопливо заталкивать сдёрнутое Михаилу в нагрудный карман. – Пусть у тебя…
И хоть лейтенанту пришлось прямо-таки упереться взглядом в помутнелую синеву глаз наклонившейся Вешки, он – лейтенант – не удосужился заметить, что синева эта именно помутнелая, что глаза у девушки нечеловечески округлились, что сделались они какими-то отстранёнными, шалыми, “не от мира сего”… Оно понятно: как тут было что-нибудь замечать после услышанного “у ТЕБЯ”! Значит, уже на “ты”… Значит…
Между тем санинструктор выпрямилась, забавно свела к переносице рыжие хвостишки бровей, словно бы пытаясь сообразить, что же это она сделала пару секунд назад. Что и зачем.
– Ладно… – по голосу и растерянному выраженью лица Белкиной чувствовалось: “что” она, кажется, вспомнила, а вот “зачем” – это вряд ли.
– Ладно, я пошла. Дел очень много, – Вешка зашмыгала носом, сразу сделавшись просто-таки неприлично похожей на доблестного командира партизанской разведки. – Караваев у меня очень мучится. Множественное осколочное в живот… Плачет и всё время зовёт, чтоб сидела с ним: говорит, на жену похожа… А как присяду, начинает о яде… Или чтоб наган у тебя выпросила…
Радоваться, слушая такие слова – скотство; но тем не менее Мечников, к стыду своему, именно обрадовался. Хоть рыженькая санинструктор пару минут назад была вроде как пьяная, а сейчас словно бы протрезвела, но протрезвление это не затронуло перехода на “ты”. Михаил стал торопливо придумывать, что бы такое сказать Вешке и при этом вроде бы невзначай тоже ей “тыкнуть” – для окончательной проверки, а то мало ли… Раз уж пошли твориться всевозможные совершенно необъяснимые… чёрт знает, как и назвать-то… в общем, ни во что сейчас нельзя верить с первого раза.
Выдумать что-либо путное лейтенант Мечников не успел: помешали.
– К Караваеву ходить боле не надобно, – проскрипел рядом ворчливый старческий голос. – Преставился Караваев.
Михаил отвалился от своей импровизированной подушки, сел прямо (резко, будто подброшенный, но рана почему-то забыла среагировать).
Это был фельдшер. Причём вовсе не обязательно он подал голос сразу же, как только подошёл; может, уже долгонько стоял рядом да смотрел-слушал, пользуясь тем, что лейтенант с санинструктором напрочь забыли об окружающих.
Вешка, наверное, тоже заподозрила старичка в свинской бестактности. Во всяком случае, девушка полоснула его таким взглядом, что даже Мечникову сделалось жутко. Правда, она тут же потупилась… и словно бы впервые увидела, что гимнастёрка на ней расхристана едва ли не до самого пояса. С заполошным писком Вешка развернулась к фельдшеру спиной и заспешила устранять непорядок в обмундировании. От ушей её, наверное, можно было бы прикурить.
А фельдшер говорил, как ни в чём ни бывало:
– Слышь, дочка… Мы тут с ранетыми помитинговали да вынесли резолюцию: ты нам покудова не нужная. Считай себя в увольнении. Думается, коль без понуканий, то вы двое так и будете страдать да воздыхать тишком друг от дружки. А времени на деликатные канители у вас боле нету. Я этого грузинца, командира вашего, недолгое время знаю, и то… Вот как он полез к тебе очертя голову, мне сразу подумалось: он до завтрева дожить не надеется. И что мы все доживём – тоже… Так что милуйтесь, пользуйтесь остатней минуткой.
Старик замялся на миг, а потом, придвинувшись к Михаилу, шепнул доверительно:
– Только вам, товарищ лейтенант, для разговоров да целования её б в сторонку отвесть. А то кой-кого из армейцев хуже ранений мучают завидки.
3
– …а я тогда была ещё рыжее, чем сейчас; тощая-тощая была и такая длинная, что они сперва решили, будто мне аж семь. И распределили в колонию для умственно-отсталых. Недели только через две разобрались, перенаправили. Вот… А в деткомунне тогда комиссарил бывший боцман. Увидал он меня, и говорит: “Ишь, какой огонёк на шестке – прям те фарватерная вешка!” Так меня Вешкой и записали. А про Великую Школу уже потом придумали – для какой-то комиссии, что ли…
Ни в какую особенную сторонку Михаил с Белкиной не ушли, а только выбрались из овражка и уселись над самым откосом, по обратную сторону раскидистого боярышника. И ни о каком особом “милованьи” друг другом тоже речи быть не могло.
Михаилу казалось, что Вешка то ли не расслышала, то ли умудрилась не понять фельдшерскую обмолвку про “остатние минутки”. Но если теперь лейтенант Мечников позволит себе что-нибудь повольнее душевного разговора да бережного обниманья за плечи, девушка уж непременно догадается… А это не нужно. Никому не будет никакой пользы, если ещё и Вешка станет маяться предчувствием скорой гибели.
Ещё и Вешка… Нет, “ещё и” – это неправильные слова. Михаил, к своему изрядному удивлению, предчувствиями отнюдь не маялся. То есть он не предчувствовал, а был совершенно уверен, что ближайшее будущее остатков шестьдесят третьего полка определено поговоркой “сколько верёвочке ни виться…”, но уверенность эта отнюдь не мучила раненого лейтенанта. Может быть, потому, что за время наступления (именно так: наступления из немецкого тыла к линии фронта) полк успел взять за себя отменно дорогую цену; или, может быть, потому, что Михаила вообще перестало интересовать всё, кроме внезапно открывшейся Вешкиной к нему особой приязни; или, может быть, потому, что таким вот странным образом сказывался изрядный удар по голове…
Всё может быть. Даже то, чего по Михаилову твёрдому атеистическому убеждению быть не могло и не может никогда и ни с кем. Лейтенанта не встревожила даже собственная нелепо-безмятежная мысль о том, что дела нынче пошли определённо колдовские, потусторонние – мысль, которая просто обязана была встревожить именно этой нелепой своей безмятежностью.
Однажды – давным-давно – так уже было с ним.
У него ведь, как и у Вешки, тоже была своя, всеми правдами и неправдами хранимая “фамильная драгоценность”… Впрочем, Михаил и сам-то уже не помнил, впрямь ли его драгоценность была фамильной, или он попросту украл эту штуку, нашел, выиграл, отнял – мало ли как попадают к беспризорной шпане всякие этакие безделки! А сохранил её потому, что понравилась, потому что пацан, которому предстояло захотеть стать настоящим художником, не мог расстаться с подобной красотой даже ради каких-нибудь беспризорничьих роскошеств. Да, вот так: украл, нашел, выиграл, отнял… хранил… И, храня, сам же себя приучил верить, будто бы это последний осколок того хорошего, которое когда-то было… А раз было, то, может, еще когда-нибудь будет…
Задним числом Михаил понимал: только каким-то чудом ему удалось сберечь это свое достояние, протащить “во время оно” через всевозможные допры, санпропускники, распределители, фильтры-приёмники… Наверное, помогало то, что и сам беспризорный Миха, и все, с кем ему приходилось иметь дело, твёрдо знали, как выглядят драгоценные камни – маленькие сверкающие многогранники, которые женщины носят в ушах и на пальцах.
Мишка Мечников успел дожить до пятнадцатилетия, прежде чем нарвался-таки на подлинного знатока. Знаток был сыном ювелира. Ювелиру в силу некоторых обстоятельств пришлось переселиться на Соловки, а потому ювелирскому отпрыску пришлось переселиться в детский дом. Чёрт его, отпрыска этого, знает, как он пронюхал о Михаиловом достоянии и почему заподозрил поживу; но вот пронюхал же как-то, и заподозрил, и с таким великолепным равнодушием в голосе попросил показать, что развесистый лопух Миха…
Через день ювелирский сынок исчез, и Михаилова драгоценность исчезла тоже. А ещё через пару дней в детском доме появился следователь. Беседовал он только с директором да парой воспитателей, а воспитанникам, собственно говоря, никто не объяснял, что этот визитёр штатской наружности – именно следователь и именно из уголовки. Но воспитанники в большинстве своём были детишками тёртыми, умели без запинки произносить выраженьица вроде “уголовно-процессуальное делопроизводство” и “атанда, урки, шухер на бану?!”, а потому ни в чьих специальных объяснениях не нуждались.
Следователь ещё не успел выйти из директорского кабинета, а детдомовцы уже шушукались о том, что беглый отпрыск ювелира вчера найден мёртвым неподалёку от торговых рядов. “Знаешь пивной ресторан товарищества гужевиков? Там рядом ещё подворотня – ну, где в запрошлом году Сохатый порезал Гуню Барбоса? Вот в ней и нашли. Его из шпаллера: впаяли блямбу под сердце да еще третью зенку провертели (небось, уже конченому – для верности). Фраерская работа: с шумом, и бросили по-глупому. Деловые бы надели на перо втихую, камень к ногам – да в Прудянку. Чтоб ни звону, ни вони… А это, небось, батянины подельники решили ему пасть заколотить – побоялись, что по сопливости болтнёт лишнего. И за какой же холерой его, дурня, к ним поволокло?”
Да, уж “за какой холерой” – это мог более ли менее точно разгадать один Михаил. Ювелирский дурень-сынок пытался продать украденное у него, Михаила.
И вот ведь странно: к тогдашней, казалось бы, безвозвратной пропаже Мишка Мечников остался непробиваемо равнодушен. Почему? Да потому, что ни на секунду не усомнился: беда поправима. Причём эта его нелепая железная вера – отнюдь не самое странное в тогдашних делах.
Несколько дней спустя обокраденному Мишке выпал случай безнадзорно пошляться по городу.
Случаем Мишка, естественно, воспользовался.
Ноги несли вырвавшегося на волю детдомовца какими-то малознакомыми улочками; под рваными ботинками чавкала унавоженная дрянная слякоть; усталое серое небо так и норовило прилечь на мокрые крыши… Чёрт его помнит, осень тогда была или ранняя болезненная весна – во всяком случае, Михаил довольно быстро продрог и совсем уже решился плюнуть на всё да возвращаться в наробразовские пенаты, как вдруг…
Крохотная площадь с коновязью и водопойной колодой. На здании, гораздо менее задрипанном, чем соседние, вывеска: “Пивной ресторан”. А неподалёку – чёрный распахнутый зев подворотни. Той самой, где какой-то Сохатый пырнул ножом какого-то Гуню. Той самой, где…
Не отрывая закляклого взгляда от подворотенной черноты, детдомовец Мечников по кличке “Миха” сперва просто торчал посреди площади; затем по-крабьи, бочком передвинулся, слепо прощупывая воздух вытянутой рукой… Дрожащие от зябкости да напряжения пальцы больно чиркнули о коновязное бревно, и Михаил, так и не обернувшись, зашарил по мёрзлому дереву, норовя определить, можно ли на него сесть или только облокотиться. Какая-то старуха, проходя, засокрушалась вслух:
Другие электронные книги автора Федор Федорович Чешко
Изверги




 0
0