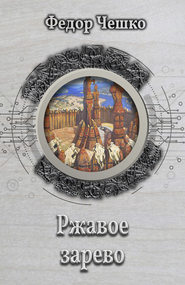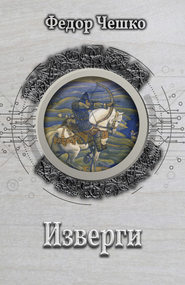По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Между степью и небом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Михаил шел вдоль лощины, шел быстро и легко, словно бы торной и прекрасно знакомой дорогой. Такая лёгкость объяснялась проще простого: дно лощины было ровным и вело под уклон. И еще тем она объяснялась, лёгкость эта, что Михаилу отчего-то были удобны, привычны нелепые сапоги (без каблуков и на мягкой подошве), дурацкая кожаная одежда (а ведь по идее от одного её запаха лейтенанту Мечникову полагалось бы ощутить, мягко говоря, дискомфорт). Бесцеремонная тяжесть перекашивала пояс и на каждом шагу назойливо, панибратски хлопала по левому бедру; какая-то вещь, заткнутая за правое голенище, давила ногу и на каждом же шаге с почти ощутимым стуком задевала лодыжку… Всё это раздражало, но в то же время казалось бесспорно привычным, уместным, нужным… Бред какой-то, бред, бред!!! Но еще бредовей казался страх. Упорное нежелание наклонить голову (впрочем, хватило бы лишь чуть-чуть опустить глаза) и рассмотреть, наконец, то самое – перекашивающее, хлопающее и задевающее. Страх увидеть, а увидев – понять. Страх превратить смутные догадки в уверенность.
Страх удостовериться в том, что на поясе действительно меч, за голенищем – кинжал (или как там это у них звалось?)… Страх убедиться, что ощущения полностью соответствуют реальности, и что реальность эта – древность одежды и снаряжения, первобытные дебри вокруг – не сон и не обморочный бред, а именно доподлинная реальность. Взявшаяся вдруг, ниоткуда, бредово… но доподлинная.
Главное же – тот, в чьём теле дьявол ведает как угораздило очутиться лейтенанта РККА Михаила Мечникова… Он, неведомый, шел уверенно, споро, зная куда; и близкой цели своего пути он не боялся. Почти не боялся. Вернее, уговорил себя, будто уж ему-то бояться там нечего. Почти уговорил, будто почти нечего.
Лес обрубился по-волшебному внезапно, разом – и чаща на склонах, и великанское чёрт-те-что на лощинном дне. Лиственный прах под ногами сменился выгоревшим луговым разнотравьем; лощина сузилась, превращаясь в глубокий овраг, а впереди…
Стена – не стена, изгородь – не изгородь… Ряд валунов, словно бы по туго распяленной верёвке вытянувшийся от склона до склона. Самый крупный из заляпанных серым лишайником камней едва ли по пояс рослому человеку, и уложены они не вплотную друг к другу – хоть перелазь, хоть протискивайся… Но почему-то ни перелезть, ни протиснуться сквозь эту чисто символическую ограду было совершенно немыслимо. Единственно возможным способом миновать её показались ворота – такие же символические, лишь обозначенные. Два окаменелых от древности деревянных столба с поперечным двускатным навесом. Судя по неодинаковой замшелости тесовин, навес частенько подправляли, а уж глядящие с его гребня, как с избяного конька, две резные конские головы на капризно, по-лебяжьи изогнутых шеях белели чистотой свежескоблёного дерева.
Наверное, Михаил просто слишком увлёкся рассматриванием диковинного воротного проёма без ворот. Наверное, это просто совпало так: лишь пройдя меж деревянных столбов, он отдал себе отчет, что в прежнюю тишину что-то вплелось – не то журчанье, не то ворчливое бормотание…
За выложенной валунами преградой-межой лощина изламывалась крутым поворотом и, будто приток в главное русло, вливалась в…
Похоже, когда-то здесь и было русло широкой полноводной реки.
Когда-то.
Давным-предавным давно.
Теперь же от когдатошней полноводности остался лишь извилистый ручей, глубоко вгрызшийся в каменистую глину бывшего речного дна.
Едва успевший миновать поворот, Михаил еще не мог разглядеть всего этого.
Он и не разглядел.
Он знал.
Увиделся же ему (и то невнятно) дальний обрыв – этакая серая, исполосованная морщинами промоин стена, как бы закупоривающая овраг там, впереди. А на её фоне…
Скала. Островерхая, слепяще-белая глыба, показавшаяся огромной, неправильной и возмутительно неуместной здесь, в этой заповедной вотчине блеклого мелкоцветья, бурого мха и серых валунов, до галькоподобности обсосанных прадавними льдами.
Германская противопехотная мина S-34 может оснащаться взрывателем как нажимного, так и натяжного действия. При строительстве долговременных огневых точек нельзя допускать, чтобы проем входа располагался напротив амбразуры. В качестве заграждений на танкоопасных участках могут использоваться ежи, надолбы, засеки, завалы, рвы, эскарпы и контрэскарпы. Лейтенант Рабоче-Крестьянской Красной Армии продолжал знать всё, что знал в своём теле и в своё время.
А тот, в чьём теле лейтенант обретался теперь, продолжал знать слыханую В СВОЁ ВРЕМЯ многажды и от многих полусказку про остров на хмуром Скандийском море, про Белую Гору – самое первое капище Светловида-Световита-Рода… самое первое и по давности своей, и по чтимости… И ещё он, тот, в кого вшвырнула Михаила Мечникова колдовская невообразимая сила, продолжал знать, что здешний подистёршийся на жвачке столетий белокаменный зуб был некогда уменьшенным, но точным подобьем первосвященной горы Арконы. А тесовый навес, широкой подковой охвативший Светловидову алтарную скалу… Его вовсе не столбы поддерживают, а высокие резные статуи Рожаниц. Двенадцать статуй. Дюжина. А с противоположной стороны алтаря стоят еще две – только те, невидимые от устья лощины, не деревянные.
Два белых каменных изваяния.
Фигура человека… точней, нечеловека… нет, еще точней – надчеловека, глядящего на четыре страны света четырьмя бородатыми ликами. А то, что поставлено оплечь с ним, первому беглому взгляду кажет себя такой жутью, что мало кто отваживается на взгляд второй, небеглый. Потому-то мало кто знает: ЭТО лишь притворилось Ящером-Змеищем, божеством, владычествующим над водами текучими, стоячими, и всеми иными. По правде ЭТО – Белый Конь, излюбленное воплощение пресветлого Рода. Если всмотреться пристальней, видно: не змиева шкура на нем, а плащ-попона из змиевой шкуры; и ящерова морда вовсе не морда, а напяленная личина. Искусно напяленная личина, под которой можно (правда, не без труда) разглядеть конские ноздри – тонкие, с большим знанием дела сработанные неведомым резчиком… да только изяществом их мешает любоваться запредельная для живой твари гневливость (и как только удалось мастеру воплотить такое несколькими бороздками на мертвом холодном камне?!).
Так-то. Лейтенант РККА сказал бы: “Маскировка”. Сказал бы, дозволь впустивший его в себя пращур потревожить древность не ей надлежащим словом.
А сам пращур молчал. Ему – сыну могучего кудесника и другу почитаемого волхва – превосходно ведомы были причины этакой вот изворотливости и всяческих недомолвок, для отражения сути которых в прадавнем языке даже слова единого не имелось.
Обустроители да хранильники священных божеских мест не живут, а ходят по отточенному клинку… да еще и над пропастью. Доподлинные образы и доподлинные имена не только самих богов, а даже их доступных людскому пониманию воплощений – страшное знание. Оплошать, помянуть по-глупому, суетно – означает призвать. Вернее, накликать. Ведь если даже иных зверей люди страшатся назвать правильным именем, выдумывая всякие иносказательные ухищрения – вроде “медведь” вместо “бер”… Ну вот, сорвалось-таки оплошное, накликающее! Одна теперь надежда, что внутри ограды Светловидова места медвежий гнев не опасен.
Да уж, не без причины столь удручающе многолики и многоимённы древние божества. “Как шпионы” – это лейтенантова мысль. И еще одна мысль барахтающегося в несвоём времени лейтенанта: знания о сокровенной истинной сути дохристианских богов настолько сокровенны, что наверняка не доживут до его лейтенантской родной эпохи. Может быть, они даже до этой вот древности не дожили?
…А то, что померещилось лейтенанту Мечникову еще одним белокаменным изваянием, стоящим перед алтарём спиною к лощинному устью… Именно “померещилось” и именно “лейтенанту” – принявший лейтенантскую душу в соседки к своей душе пращур знал, что это не статуя.
Это был человек.
Высокий старец. В белоснежном одеянии, белоснежно седой… Каменно неподвижный… Именно его негромкий журчливый голос мешал разлёгшейся над миром тишине стать поистине тишиною, всевластной и мёртвой. Или это ручей, невидимый в шрамоподобном русле, норовил придать своему журчанью внятность человеческой речи? Всё может быть – дьявол их знает, эти времена и места. Да уж, дьявол, наверное, знает… если уже успел родиться и стать собой.
Омывая закатом кровянеющий лик,
Хорс к земле припадает, как избитый старик,
А из омутов-речищ, как из киснущих ран,
Бледным гноем сочится затхлый знобкий туман –
Тень весёлого света и дневного тепла,
В полыханье заката догоревших дотла.
Выстилаются тени – всё длинней, всё мутней –
Мимолётная немочь честной сути вещей,
Уплощение правды (вместо “будь” – “покажись”),
Затяжным умираньем подменившее жизнь.
А от даль-виднокрая запредельной черты
Наползает, вспухая, вал ночной черноты –
Тень кровавых пожаров и пожаров в крови,
Тень того, что нагрянет – хоть гони, хоть зови;
Тень того, что дождётся скрипа дрогнувших врат,
Миг ли, век ли, века ли будет чахнуть закат.
Белоснежный старец вдруг обернулся, но лейтенант Мечников не успел увидеть его лицо. Увиделось лейтенанту лишь бешеное чёрное пламя взгляда, от которого пращур, до этого мига удивительно спокойно терпевший в своём теле несвою душу, внезапно ужаснулся ей, и…
Он – пращур, или как его там по-правильному? – был из тех, чей испуг для пугателя смертелен. Но Михаилу повезло: лейтенанта Рабоче-Крестьянской Красной всего лишь вышвырнули прочь. Так разъярённый хозяин спускает с крыльца нахрапистого наглого визитёра.
4
Во всем виноват удар по голове – Вешка наверняка ошиблась, что сотрясения мозга нет. Стало быть, можно вытрясти из мозгов (каламбур!) всякие бредни и не бояться…
Нет, не бояться нельзя.
Потому, что последствия удара – сотрясение и всё такое прочее – НЕ ОЩУЩАЮТСЯ. Лейтенант Мечников бодр, вполне работоспособен… и очень боится дать себе отчёт в том, что ненормальные эти бодрость да работоспособность подарены ему лежащими в нагрудном кармане побрякушками… колдовскими побрякушками… своей и Вешкиной… Нет-нет, конечно же причина твоего ненормально хорошего самочувствия кроется именно в Вешке, в негаданной Вешкиной взаимности, в твоих переживаниях за Вешку…
А видение было бредом. Усвоил, лейтенант?! Бредом! Обычнейшим, вздорным, глупым. Доказательства? Вообще-то сапёр – не следователь, чтоб выискивать какие-то там доказательства, но уж ладно… Учти: это только снисходя к нашей с тобою тяжкой контузии… повторяю: тяж-кой кон-ту-зи-и. Учёл? Так вот: современный атеистически воспитанный человек с полтормыми высшими образованиями (это ты) охренел от страха, когда его душа ввалилась в тело допотопного безграмотного вояки; а допотопный безграмотный вояка, обнаружив в себе помимо собственной души чью-то чужую (в отличие от тебя, он даже не понял, чью), воспринял это с таким философским спокойствием, что… что… Действительно, что тут странного? Это нам с тобой, лейтенант, подавай объяснения на платформе материализма, а пращуру (тем более сыну такого отца и другу такого друга) всё ясней ясного: обычнейшее… как там у них говорили – ведовство? Или волхование? Господи, да какая в звезду разница?!
Вот те и доказательства, мать-перемать…
Нет, это всё из-за удара по голове. Вешка наверняка ошиблась, что сотрясения… Впрочем, это мы с тобою уже друг другу растолковали. Повторяемся, стало быть. И заговариваемся. И сами к себе во множественном числе… Есть, кажется, такое сумасшествие: раздвоение личности…
Вот именно.
Раздвоение.
Даже растроение, потому что и собой ты был, и древним этим рубакой-головорезом, и в то же время дисциплинированно (причём с неожиданным успехом) выполнил приказ товарища старшего политрука. Нашел поблизости от “расположения полка” место, пригодное для воплощения в жизнь Зурабовых директив; оценил грунт; почти закончил предварительную разметку… До чего же здорово мы с вами, товарищ лейтенант Мечников, ухитряемся всё успевать – и дело делать, и с ума пятиться…
Так, хватит. Как это давеча говорил З. Ниношвили? Понять невозможно, гадать бессмысленно, значит – забыли. Вот и забудь. И вообще… Хватит ковыряться в земле и в собственном идиотизме. Ну-ка, вы, расплодившиеся личности лейтенанта Мечникова, слушай мою команду! В одну шеренгу становись! Р-р-р-няйсь! Сми-р-р-на! Нале-ву! На доклад к и.о. комполка шаго-о-ом… арш! Запевай!
А если к нам полезет враг матёрый
Он будет бит повсюду и кругом!
Мы, если надо, прошибём хоть горы
Страх удостовериться в том, что на поясе действительно меч, за голенищем – кинжал (или как там это у них звалось?)… Страх убедиться, что ощущения полностью соответствуют реальности, и что реальность эта – древность одежды и снаряжения, первобытные дебри вокруг – не сон и не обморочный бред, а именно доподлинная реальность. Взявшаяся вдруг, ниоткуда, бредово… но доподлинная.
Главное же – тот, в чьём теле дьявол ведает как угораздило очутиться лейтенанта РККА Михаила Мечникова… Он, неведомый, шел уверенно, споро, зная куда; и близкой цели своего пути он не боялся. Почти не боялся. Вернее, уговорил себя, будто уж ему-то бояться там нечего. Почти уговорил, будто почти нечего.
Лес обрубился по-волшебному внезапно, разом – и чаща на склонах, и великанское чёрт-те-что на лощинном дне. Лиственный прах под ногами сменился выгоревшим луговым разнотравьем; лощина сузилась, превращаясь в глубокий овраг, а впереди…
Стена – не стена, изгородь – не изгородь… Ряд валунов, словно бы по туго распяленной верёвке вытянувшийся от склона до склона. Самый крупный из заляпанных серым лишайником камней едва ли по пояс рослому человеку, и уложены они не вплотную друг к другу – хоть перелазь, хоть протискивайся… Но почему-то ни перелезть, ни протиснуться сквозь эту чисто символическую ограду было совершенно немыслимо. Единственно возможным способом миновать её показались ворота – такие же символические, лишь обозначенные. Два окаменелых от древности деревянных столба с поперечным двускатным навесом. Судя по неодинаковой замшелости тесовин, навес частенько подправляли, а уж глядящие с его гребня, как с избяного конька, две резные конские головы на капризно, по-лебяжьи изогнутых шеях белели чистотой свежескоблёного дерева.
Наверное, Михаил просто слишком увлёкся рассматриванием диковинного воротного проёма без ворот. Наверное, это просто совпало так: лишь пройдя меж деревянных столбов, он отдал себе отчет, что в прежнюю тишину что-то вплелось – не то журчанье, не то ворчливое бормотание…
За выложенной валунами преградой-межой лощина изламывалась крутым поворотом и, будто приток в главное русло, вливалась в…
Похоже, когда-то здесь и было русло широкой полноводной реки.
Когда-то.
Давным-предавным давно.
Теперь же от когдатошней полноводности остался лишь извилистый ручей, глубоко вгрызшийся в каменистую глину бывшего речного дна.
Едва успевший миновать поворот, Михаил еще не мог разглядеть всего этого.
Он и не разглядел.
Он знал.
Увиделся же ему (и то невнятно) дальний обрыв – этакая серая, исполосованная морщинами промоин стена, как бы закупоривающая овраг там, впереди. А на её фоне…
Скала. Островерхая, слепяще-белая глыба, показавшаяся огромной, неправильной и возмутительно неуместной здесь, в этой заповедной вотчине блеклого мелкоцветья, бурого мха и серых валунов, до галькоподобности обсосанных прадавними льдами.
Германская противопехотная мина S-34 может оснащаться взрывателем как нажимного, так и натяжного действия. При строительстве долговременных огневых точек нельзя допускать, чтобы проем входа располагался напротив амбразуры. В качестве заграждений на танкоопасных участках могут использоваться ежи, надолбы, засеки, завалы, рвы, эскарпы и контрэскарпы. Лейтенант Рабоче-Крестьянской Красной Армии продолжал знать всё, что знал в своём теле и в своё время.
А тот, в чьём теле лейтенант обретался теперь, продолжал знать слыханую В СВОЁ ВРЕМЯ многажды и от многих полусказку про остров на хмуром Скандийском море, про Белую Гору – самое первое капище Светловида-Световита-Рода… самое первое и по давности своей, и по чтимости… И ещё он, тот, в кого вшвырнула Михаила Мечникова колдовская невообразимая сила, продолжал знать, что здешний подистёршийся на жвачке столетий белокаменный зуб был некогда уменьшенным, но точным подобьем первосвященной горы Арконы. А тесовый навес, широкой подковой охвативший Светловидову алтарную скалу… Его вовсе не столбы поддерживают, а высокие резные статуи Рожаниц. Двенадцать статуй. Дюжина. А с противоположной стороны алтаря стоят еще две – только те, невидимые от устья лощины, не деревянные.
Два белых каменных изваяния.
Фигура человека… точней, нечеловека… нет, еще точней – надчеловека, глядящего на четыре страны света четырьмя бородатыми ликами. А то, что поставлено оплечь с ним, первому беглому взгляду кажет себя такой жутью, что мало кто отваживается на взгляд второй, небеглый. Потому-то мало кто знает: ЭТО лишь притворилось Ящером-Змеищем, божеством, владычествующим над водами текучими, стоячими, и всеми иными. По правде ЭТО – Белый Конь, излюбленное воплощение пресветлого Рода. Если всмотреться пристальней, видно: не змиева шкура на нем, а плащ-попона из змиевой шкуры; и ящерова морда вовсе не морда, а напяленная личина. Искусно напяленная личина, под которой можно (правда, не без труда) разглядеть конские ноздри – тонкие, с большим знанием дела сработанные неведомым резчиком… да только изяществом их мешает любоваться запредельная для живой твари гневливость (и как только удалось мастеру воплотить такое несколькими бороздками на мертвом холодном камне?!).
Так-то. Лейтенант РККА сказал бы: “Маскировка”. Сказал бы, дозволь впустивший его в себя пращур потревожить древность не ей надлежащим словом.
А сам пращур молчал. Ему – сыну могучего кудесника и другу почитаемого волхва – превосходно ведомы были причины этакой вот изворотливости и всяческих недомолвок, для отражения сути которых в прадавнем языке даже слова единого не имелось.
Обустроители да хранильники священных божеских мест не живут, а ходят по отточенному клинку… да еще и над пропастью. Доподлинные образы и доподлинные имена не только самих богов, а даже их доступных людскому пониманию воплощений – страшное знание. Оплошать, помянуть по-глупому, суетно – означает призвать. Вернее, накликать. Ведь если даже иных зверей люди страшатся назвать правильным именем, выдумывая всякие иносказательные ухищрения – вроде “медведь” вместо “бер”… Ну вот, сорвалось-таки оплошное, накликающее! Одна теперь надежда, что внутри ограды Светловидова места медвежий гнев не опасен.
Да уж, не без причины столь удручающе многолики и многоимённы древние божества. “Как шпионы” – это лейтенантова мысль. И еще одна мысль барахтающегося в несвоём времени лейтенанта: знания о сокровенной истинной сути дохристианских богов настолько сокровенны, что наверняка не доживут до его лейтенантской родной эпохи. Может быть, они даже до этой вот древности не дожили?
…А то, что померещилось лейтенанту Мечникову еще одним белокаменным изваянием, стоящим перед алтарём спиною к лощинному устью… Именно “померещилось” и именно “лейтенанту” – принявший лейтенантскую душу в соседки к своей душе пращур знал, что это не статуя.
Это был человек.
Высокий старец. В белоснежном одеянии, белоснежно седой… Каменно неподвижный… Именно его негромкий журчливый голос мешал разлёгшейся над миром тишине стать поистине тишиною, всевластной и мёртвой. Или это ручей, невидимый в шрамоподобном русле, норовил придать своему журчанью внятность человеческой речи? Всё может быть – дьявол их знает, эти времена и места. Да уж, дьявол, наверное, знает… если уже успел родиться и стать собой.
Омывая закатом кровянеющий лик,
Хорс к земле припадает, как избитый старик,
А из омутов-речищ, как из киснущих ран,
Бледным гноем сочится затхлый знобкий туман –
Тень весёлого света и дневного тепла,
В полыханье заката догоревших дотла.
Выстилаются тени – всё длинней, всё мутней –
Мимолётная немочь честной сути вещей,
Уплощение правды (вместо “будь” – “покажись”),
Затяжным умираньем подменившее жизнь.
А от даль-виднокрая запредельной черты
Наползает, вспухая, вал ночной черноты –
Тень кровавых пожаров и пожаров в крови,
Тень того, что нагрянет – хоть гони, хоть зови;
Тень того, что дождётся скрипа дрогнувших врат,
Миг ли, век ли, века ли будет чахнуть закат.
Белоснежный старец вдруг обернулся, но лейтенант Мечников не успел увидеть его лицо. Увиделось лейтенанту лишь бешеное чёрное пламя взгляда, от которого пращур, до этого мига удивительно спокойно терпевший в своём теле несвою душу, внезапно ужаснулся ей, и…
Он – пращур, или как его там по-правильному? – был из тех, чей испуг для пугателя смертелен. Но Михаилу повезло: лейтенанта Рабоче-Крестьянской Красной всего лишь вышвырнули прочь. Так разъярённый хозяин спускает с крыльца нахрапистого наглого визитёра.
4
Во всем виноват удар по голове – Вешка наверняка ошиблась, что сотрясения мозга нет. Стало быть, можно вытрясти из мозгов (каламбур!) всякие бредни и не бояться…
Нет, не бояться нельзя.
Потому, что последствия удара – сотрясение и всё такое прочее – НЕ ОЩУЩАЮТСЯ. Лейтенант Мечников бодр, вполне работоспособен… и очень боится дать себе отчёт в том, что ненормальные эти бодрость да работоспособность подарены ему лежащими в нагрудном кармане побрякушками… колдовскими побрякушками… своей и Вешкиной… Нет-нет, конечно же причина твоего ненормально хорошего самочувствия кроется именно в Вешке, в негаданной Вешкиной взаимности, в твоих переживаниях за Вешку…
А видение было бредом. Усвоил, лейтенант?! Бредом! Обычнейшим, вздорным, глупым. Доказательства? Вообще-то сапёр – не следователь, чтоб выискивать какие-то там доказательства, но уж ладно… Учти: это только снисходя к нашей с тобою тяжкой контузии… повторяю: тяж-кой кон-ту-зи-и. Учёл? Так вот: современный атеистически воспитанный человек с полтормыми высшими образованиями (это ты) охренел от страха, когда его душа ввалилась в тело допотопного безграмотного вояки; а допотопный безграмотный вояка, обнаружив в себе помимо собственной души чью-то чужую (в отличие от тебя, он даже не понял, чью), воспринял это с таким философским спокойствием, что… что… Действительно, что тут странного? Это нам с тобой, лейтенант, подавай объяснения на платформе материализма, а пращуру (тем более сыну такого отца и другу такого друга) всё ясней ясного: обычнейшее… как там у них говорили – ведовство? Или волхование? Господи, да какая в звезду разница?!
Вот те и доказательства, мать-перемать…
Нет, это всё из-за удара по голове. Вешка наверняка ошиблась, что сотрясения… Впрочем, это мы с тобою уже друг другу растолковали. Повторяемся, стало быть. И заговариваемся. И сами к себе во множественном числе… Есть, кажется, такое сумасшествие: раздвоение личности…
Вот именно.
Раздвоение.
Даже растроение, потому что и собой ты был, и древним этим рубакой-головорезом, и в то же время дисциплинированно (причём с неожиданным успехом) выполнил приказ товарища старшего политрука. Нашел поблизости от “расположения полка” место, пригодное для воплощения в жизнь Зурабовых директив; оценил грунт; почти закончил предварительную разметку… До чего же здорово мы с вами, товарищ лейтенант Мечников, ухитряемся всё успевать – и дело делать, и с ума пятиться…
Так, хватит. Как это давеча говорил З. Ниношвили? Понять невозможно, гадать бессмысленно, значит – забыли. Вот и забудь. И вообще… Хватит ковыряться в земле и в собственном идиотизме. Ну-ка, вы, расплодившиеся личности лейтенанта Мечникова, слушай мою команду! В одну шеренгу становись! Р-р-р-няйсь! Сми-р-р-на! Нале-ву! На доклад к и.о. комполка шаго-о-ом… арш! Запевай!
А если к нам полезет враг матёрый
Он будет бит повсюду и кругом!
Мы, если надо, прошибём хоть горы
Другие электронные книги автора Федор Федорович Чешко
Изверги




 0
0