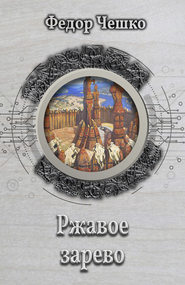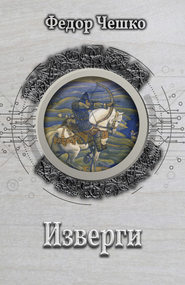По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Между степью и небом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ишь, чем студенчество балуется! А ещё ноете, будто стипендия ваша нищенская…
– Да я почти что и не курю, – хмыкнул Мечников. – Это так только, для…
– Для форсу перед барышнями? – понимающе перебил Леонид Леонидыч. – Действительно, такой кислятиной только девицам глазки туманить. А настоящее курево должно продирать до самого нутра… до нутра души. Знаете, юноша, где я это понял? Нет? Ничего, вам еще, не ровён час, самому понять доведётся… там же. Особенно, коли возьмёте в привычку якшаться с разными неблагонадёжными. Мне-то выпало всего-навсего в следственной попариться, а вам… типун, конечно, мне на язык…
Завхоз откинулся на спинку вконец изнемогшего кресла и с видимым удовольствием пустил к потолоку плотную струю желтой махорочной гари.
– Нуте-с, вернёмся к вашему произведению, – Леонид Леонидыч взял со стола рисунок. – Что мы видим? А вот что: презабавно одетый мужик уныло силится выказать опаску при виде повязанного змеею (этак коробку с пирожными лентой повязывают) черепа кобылы…
– Коня, – мрачно поправил Михаил.
– Это ВЫ, юноша, знаете, что коня. Или Я, посредством нехитрой дедукции, могу разгадать ваш изначальный замысел касательно половой принадлежности данного черепа. Но представьте, что сей шедевр угодит на глаза, скажем, наркому Ворошилову, который вряд ли читывал Александра Сергеевича, способностью к отгадыванию мыслей не обладает, зато обладает колоссальными познаниями в практической гиппологии (хоть словцо сие, коль даже и слыхивал, наверняка почитает экзотическою матерщиной).
Леонид Леонидыч встал и направился к одному из стеллажей.
– Вы уж не взыщите, что столько внимания уделяю такой вроде бы мелочи, – говорил он, роясь на ломящихся от книг полках, – но из совокупности мелочей именно и складывается художественный образ, а образ, говоря по-теперешнему, есть целевая продукция любого изобразительного труда… Ага, вот.
Завхоз вернулся и обрушил на стол тяжеленную подшивку каких-то журналов.
– Вот, извольте полюбопытствовать. Незадолго до революции в “Русском коневодстве” была опубликована статья, напрямую затрагивающая наш с вами сегодняшний вопрос. Автор весьма опытен и компетентен: насколько помнится, он возглавлял ветеринарную службу на конном заводе графа Орлова. Вот здесь приведены великолепные рисунки строенья костяков жеребцов и кобыл, причём не только орловцев, но и целого ряда иных пород. Видите? Общие различия тотчас бросаются в глаза. Кобылий череп выглядит заметно более удлинённым за счёт утонченностей вот здесь… и здесь тоже… Всмотритесь хоть в этот изгиб – видите, насколько он плавней, изящнее, чем у жеребца? Так-с, а теперь поглядите на свой рисунок. Ну, видите? Вы, молодой человек, ни к селу, ни к городу пустились в изящные выкрутасы, а потому изобразили череп не то кобылы, не то чрезмерно крупного жеребёнка, не то просто уродца какого-то… Хотя в те древние времена (в отличие от нынешнего лета одна тысяча девятьсот тридцать шестого с Рождества Христова) породы скота еще только формировались, а потому врождённые уродства как правило были проявлениями частичного возврата к образу дикого прародителя – то есть, вероятно, сводились опять-таки к укорочению морды и огрублению челюстного сустава. А у жеребячьего черепа также есть свои характерные особенности: посмотрите вот эти линии, например… опять же неполнозубость… Так что можно со спокойной душой утверждать: череп вы изобразили кобы… коб…
Лицо старого живописца вдруг исказилось нелепо и неприятно, голос надломился, зазвенел бабьими истеричными провизгами:
– …нельзя! Проснитесь, товарищ лейтенант, вам нельзя же!
* * *
– Ну вот, я так и знала! Всего-то минут пятнадцать без присмотра – и не выдержали. Эх, вы… сильный…
Минут пятнадцать? Всякие твои роскошные переживания, сон этот – всё уложилось в четверть часа? Ну-ну…
– Сами виноваты, товарищ санинструктор! – Михаил силился выморгать из глаз сонную муть. – Пока о гадостях думал, всё хорошо было; а как по вашему совету вспомнил приятное…
Устроившаяся на корточках возле раненого лейтенанта Вешка зафыркала, как раздраженная кошка:
– Вам хиханьки, да? Хиханьки? Неужели трудно понять, как опасны шутки с рассудком?! Такое может получиться – не приведи, Господи…
– Да вы что, действительно верующая? – улыбнулся Мечников.
Секунду-другую Вешка забавно хмурила брови, похожие на крохотные беличьи хвостики; затем, сообразив, что к чему, аж воздухом подавилась от негодования:
– Та-а-ак… Подслушивали, значит! Комедию, значит, со мной играли! А я-то его жалею!.. А он… Знать вас после этого не хочу!
Санинструктор вскочила, явно вознамерившись уходить. Михаил дёрнулся было ловить её за руку – безуспешно. От резкого движения в лоб ему словно раскалённый костыль вколотили, и лейтенант со стоном откинулся обратно, на свёрнутую тючком шинель.
– Это вы взаправду, или опять дурака ломаете?! – грозно вопросила Вешка, приостанавливаясь.
– Взаправду, – голосом умирающего произнёс Михаил. И, на секунду замявшись, честно добавил: – Почти.
Поколебавшись, Белкина всё-таки решила вновь опуститься на корточки, однако от Михаила старательно отворачивалась. Сперва ей потребовалось следить, чем занят у противоположного ската овражка “вольноопределяющийся” фельдшер – Вешка даже затеяла подавать старику указания, на которые тот вроде бы не шибко впопад ответил что-то про сопливый нос и необсохлое молоко. Потом, явно сочтя ниже собственного достоинства вступать в пререкания с дряхлым спесивцем, Белкина переадресовала своё внимание качающейся над самой её пилоткой ветви боярышника. Внимание это было исключительно пристальным, сосредоточенным, и когда санинструктор вдруг заговорила, Мечников лишь ценою изрядного усилия сообразил, что обращается она отнюдь не к кусту.
– Притворялся, значит, – тихонько сказала Вешка, трогая кончиком пальца остриё длинного корявого шипа. – Подслушивал, подсматривал… И помалкивал. Товарищ старший политрук мне чуть не под гимнастёрку лезли, а товарищ лейтенант помалкивали. Эх, вы, сильный…
– Честно говоря, мне казалось, что вам не неприятно… Ну, то есть, что вам нравится… – Михаил очень старался придумать какую-нибудь обходительную формулировку, но в голову нахраписто лезли (и столь же нахраписто рвались с языка) оправдания, подозрительно смахивающие на оскорбления.
А потом Вешка искоса глянула на раненого лейтенанта и тут же потупилась, полупростонав-полувыдохнув какое-то одинокое слово; Мечников на всякий случай кивнул, а через долю мига после кивка сообразил, что слово это было “дурак”.
Вообще-то санинструктору негоже обзывать дураком среднего командира. Но голос Вешкин… И то, как она мучительно вывернула шею, пытаясь спрятать от Михаила лицо… И уши её, цветом напоминающие первомайские транспаранты… Похоже, дорогой товарищ Мечников, что несбыточные твои мечты отнюдь не несбыточны.
– Ну, всё! – Белкина снова вскочила. – Некогда мне с вами рассиживаться!
Она торопливо, но очень тщательно заправила под пилотку выбившиеся пряди, затем убила пару секунд на придание скульптурного совершенства расположению гимнастёрочных складок под поясным ремнём, затем (мгновенье проразмышляв) сняла пилотку, устранила какую-то неправильность в причёске, надела пилотку и опять стала тщательно заправлять под неё короткие непослушные волосы… А потом вдруг решительно уселась на поросший реденькой травою песок рядом с Михаилом. И заявила:
– Только не вообразите себе ничего этакого, понятно?! Вовсе мне не так уж хочется именно с вами возиться; просто нужно ещё раз вас осмотреть.
“Не вообразить этакого” Михаил согласился беспрекословно. Собственно, по его мнению пищи для воображения ситуация не оставила. Ситуация оставила пищу только для сожалений, типа: “эх, вот бы всё это годом раньше!..” Да, раньше… Не годом, так хоть бы месяцем… А теперь, судя по давешнему Зурабову срыву, как бы не слишком поздно.
Тем временем санинструктор решительно приступила к исполнению своих санинструкторских обязанностей:
– Сядьте прямо. И снимите вашу дурацкую фуражку! Вы в ней только спите, или купаетесь тоже?.. Так, руки перед собой, глаза закрыли, пальцем коснулись кончика носа… Своего носа, своего! Товарищ лейтенант, честное слово сейчас ударю! Так, другой ру… хорошо. Теперь зубы оскальте… Так, теперь язык… Да не оскалить нужно язык, а высунуть… остряк-самоучка… Сильней высовывайте… ещё сильней… ого! Так, теперь прижмите подбородок к груди… Э-э, вот только посмейте, как с носом – просто не знаю, что с вами сделаю!!!
Михаил вовсе не собирался позволять себе какие-то чрезмерные вольности, и Вешкино подозрение… нет, не обидело его (лейтенант Мечников, похоже, утратил способность испытывать к рыжей медичке какие либо негативные чувства)… не обидело, но очень удивило. А ещё удивляло раненого лейтенанта то, с какой лёгкостью даётся ему выполнение санинструкторских приказов и собственных неуместных дурачеств. Минут с пяток назад от резкого движенья чуть сознание не потерял, а теперь – ишь! Неужели аж так бодряще подействовало недавнее открытие? Или это Вешкина близость столь благотворно влияет? Ведь и раньше… Перевязку (в общем-то немилосердную) вынес даже без ойканья; а до перевязки во-он сколько времени ухитрялся лишь ПРИКИДЫВАТЬСЯ беспамятным…
– Ладно, – голос Белкиной (уж чересчур суровый, чтобы действительно казаться таковым) прервал сумбурные Михаиловы мысли. – Можете лечь. Кажется, я ошиблась: нет у вас сотрясения.
Она смолкла на миг; потом добавила тоном глубочайшего сожаления:
– Ну и слава Богу.
Мечникову не хотелось ложиться, ему хотелось безотрывно смотреть на свою лекаршу, так забавно и так неубедительно пытающуюся выглядеть сердитой. И ещё ему хотелось (вот, действительно, крайне умное да своевременное желание!) поддразнить Вешку: очень уж это потешно и трогательно, когда уши делаются под цвет червоно-золотым волосам.
– Всё же частовато вы Господа поминаете, – не сумел-таки Михаил удержаться от подначки. – И действительно крестик у вас – вон цепочку видно…
Санинструктор машинально вскинула пальцы к вороту гимнастёрки, который был у неё не по-уставному расстёгнут и вывернут на манер отложного. Мечников собирался ещё высказать предположение насчёт леченья раненых посредством святой воды, но не успел.
Вешка, оказывается, вовсе не застёгивать воротник собралась. Она собралась снять с шеи и показать лейтенанту-насмешнику то, что сперва комполка, а теперь и он посчитали нательным крестиком.
Это была какая-то бляшка, напоминающая старый-старый потемнелый пятак (только толще). Обхлестнув снятую цепочку вокруг запястья, Белкина приблизила нелепую подвеску к самым Мечниковским глазам, и подвеска, чуть отклонившись под ровным нажимом ветра, секунду-другую будто бы размышляла (стоит – не стоит?), а потом принялась раскачиваться – степенно, не частя, как-то уж слишком увесисто для такой мелковатой вещицы. Раненный лейтенант успел заметить на тёмной то ли бронзе, то ли чёрт знает чём, ещё более тёмные линии схематического скупого рисунка – нечто вроде шестерёнки с вписанной в неё плавной дугой (мельком вспомнилось виденое когда-то изображенье солнечного затмения из древне-чьей-то-там летописи)…
В следующий миг вокруг Михаила не стало ничего знакомого, привычного, объяснимого – совсем ничего не стало вокруг. А спустя может, секунду, а может, век, это новоявленное никакое ничто взорвалось, разметалось неохватной ковыльной далью, вспучилось бестравными крутыми откосами, и тут же придавило это собственное стремление ввысь тяжкой мохнатой твердью оседающего к земле предгрозового ненастья…
Что получилось?
Плоская осенняя степь. Свежий курган, лишь кое-где успевший подёрнуться скудной щетиной запоздалого травяного молодняка. Курган плосковерхий, будто бы впрямь смял ему вершину удар об вислое небесное брюхо – косматое, напряжённое, готовое в мучительной судороге вытолкнуть из себя неистовство какой-то вселенской бури.
А потом на просторной плоской вершине появились ОНИ.
Хлынувший с неба струйчатый вязкий туман мгновенно размыл, изглодал их, превратил в изменчивые плоские силуэты, а они метались, вскидывались, сшибались, будто встречные валы двух схлестнувшихся бесноватых штормов… Две гигантские лошадиные тени… Бледно-белесая и угольно-вороная…
– Да я почти что и не курю, – хмыкнул Мечников. – Это так только, для…
– Для форсу перед барышнями? – понимающе перебил Леонид Леонидыч. – Действительно, такой кислятиной только девицам глазки туманить. А настоящее курево должно продирать до самого нутра… до нутра души. Знаете, юноша, где я это понял? Нет? Ничего, вам еще, не ровён час, самому понять доведётся… там же. Особенно, коли возьмёте в привычку якшаться с разными неблагонадёжными. Мне-то выпало всего-навсего в следственной попариться, а вам… типун, конечно, мне на язык…
Завхоз откинулся на спинку вконец изнемогшего кресла и с видимым удовольствием пустил к потолоку плотную струю желтой махорочной гари.
– Нуте-с, вернёмся к вашему произведению, – Леонид Леонидыч взял со стола рисунок. – Что мы видим? А вот что: презабавно одетый мужик уныло силится выказать опаску при виде повязанного змеею (этак коробку с пирожными лентой повязывают) черепа кобылы…
– Коня, – мрачно поправил Михаил.
– Это ВЫ, юноша, знаете, что коня. Или Я, посредством нехитрой дедукции, могу разгадать ваш изначальный замысел касательно половой принадлежности данного черепа. Но представьте, что сей шедевр угодит на глаза, скажем, наркому Ворошилову, который вряд ли читывал Александра Сергеевича, способностью к отгадыванию мыслей не обладает, зато обладает колоссальными познаниями в практической гиппологии (хоть словцо сие, коль даже и слыхивал, наверняка почитает экзотическою матерщиной).
Леонид Леонидыч встал и направился к одному из стеллажей.
– Вы уж не взыщите, что столько внимания уделяю такой вроде бы мелочи, – говорил он, роясь на ломящихся от книг полках, – но из совокупности мелочей именно и складывается художественный образ, а образ, говоря по-теперешнему, есть целевая продукция любого изобразительного труда… Ага, вот.
Завхоз вернулся и обрушил на стол тяжеленную подшивку каких-то журналов.
– Вот, извольте полюбопытствовать. Незадолго до революции в “Русском коневодстве” была опубликована статья, напрямую затрагивающая наш с вами сегодняшний вопрос. Автор весьма опытен и компетентен: насколько помнится, он возглавлял ветеринарную службу на конном заводе графа Орлова. Вот здесь приведены великолепные рисунки строенья костяков жеребцов и кобыл, причём не только орловцев, но и целого ряда иных пород. Видите? Общие различия тотчас бросаются в глаза. Кобылий череп выглядит заметно более удлинённым за счёт утонченностей вот здесь… и здесь тоже… Всмотритесь хоть в этот изгиб – видите, насколько он плавней, изящнее, чем у жеребца? Так-с, а теперь поглядите на свой рисунок. Ну, видите? Вы, молодой человек, ни к селу, ни к городу пустились в изящные выкрутасы, а потому изобразили череп не то кобылы, не то чрезмерно крупного жеребёнка, не то просто уродца какого-то… Хотя в те древние времена (в отличие от нынешнего лета одна тысяча девятьсот тридцать шестого с Рождества Христова) породы скота еще только формировались, а потому врождённые уродства как правило были проявлениями частичного возврата к образу дикого прародителя – то есть, вероятно, сводились опять-таки к укорочению морды и огрублению челюстного сустава. А у жеребячьего черепа также есть свои характерные особенности: посмотрите вот эти линии, например… опять же неполнозубость… Так что можно со спокойной душой утверждать: череп вы изобразили кобы… коб…
Лицо старого живописца вдруг исказилось нелепо и неприятно, голос надломился, зазвенел бабьими истеричными провизгами:
– …нельзя! Проснитесь, товарищ лейтенант, вам нельзя же!
* * *
– Ну вот, я так и знала! Всего-то минут пятнадцать без присмотра – и не выдержали. Эх, вы… сильный…
Минут пятнадцать? Всякие твои роскошные переживания, сон этот – всё уложилось в четверть часа? Ну-ну…
– Сами виноваты, товарищ санинструктор! – Михаил силился выморгать из глаз сонную муть. – Пока о гадостях думал, всё хорошо было; а как по вашему совету вспомнил приятное…
Устроившаяся на корточках возле раненого лейтенанта Вешка зафыркала, как раздраженная кошка:
– Вам хиханьки, да? Хиханьки? Неужели трудно понять, как опасны шутки с рассудком?! Такое может получиться – не приведи, Господи…
– Да вы что, действительно верующая? – улыбнулся Мечников.
Секунду-другую Вешка забавно хмурила брови, похожие на крохотные беличьи хвостики; затем, сообразив, что к чему, аж воздухом подавилась от негодования:
– Та-а-ак… Подслушивали, значит! Комедию, значит, со мной играли! А я-то его жалею!.. А он… Знать вас после этого не хочу!
Санинструктор вскочила, явно вознамерившись уходить. Михаил дёрнулся было ловить её за руку – безуспешно. От резкого движения в лоб ему словно раскалённый костыль вколотили, и лейтенант со стоном откинулся обратно, на свёрнутую тючком шинель.
– Это вы взаправду, или опять дурака ломаете?! – грозно вопросила Вешка, приостанавливаясь.
– Взаправду, – голосом умирающего произнёс Михаил. И, на секунду замявшись, честно добавил: – Почти.
Поколебавшись, Белкина всё-таки решила вновь опуститься на корточки, однако от Михаила старательно отворачивалась. Сперва ей потребовалось следить, чем занят у противоположного ската овражка “вольноопределяющийся” фельдшер – Вешка даже затеяла подавать старику указания, на которые тот вроде бы не шибко впопад ответил что-то про сопливый нос и необсохлое молоко. Потом, явно сочтя ниже собственного достоинства вступать в пререкания с дряхлым спесивцем, Белкина переадресовала своё внимание качающейся над самой её пилоткой ветви боярышника. Внимание это было исключительно пристальным, сосредоточенным, и когда санинструктор вдруг заговорила, Мечников лишь ценою изрядного усилия сообразил, что обращается она отнюдь не к кусту.
– Притворялся, значит, – тихонько сказала Вешка, трогая кончиком пальца остриё длинного корявого шипа. – Подслушивал, подсматривал… И помалкивал. Товарищ старший политрук мне чуть не под гимнастёрку лезли, а товарищ лейтенант помалкивали. Эх, вы, сильный…
– Честно говоря, мне казалось, что вам не неприятно… Ну, то есть, что вам нравится… – Михаил очень старался придумать какую-нибудь обходительную формулировку, но в голову нахраписто лезли (и столь же нахраписто рвались с языка) оправдания, подозрительно смахивающие на оскорбления.
А потом Вешка искоса глянула на раненого лейтенанта и тут же потупилась, полупростонав-полувыдохнув какое-то одинокое слово; Мечников на всякий случай кивнул, а через долю мига после кивка сообразил, что слово это было “дурак”.
Вообще-то санинструктору негоже обзывать дураком среднего командира. Но голос Вешкин… И то, как она мучительно вывернула шею, пытаясь спрятать от Михаила лицо… И уши её, цветом напоминающие первомайские транспаранты… Похоже, дорогой товарищ Мечников, что несбыточные твои мечты отнюдь не несбыточны.
– Ну, всё! – Белкина снова вскочила. – Некогда мне с вами рассиживаться!
Она торопливо, но очень тщательно заправила под пилотку выбившиеся пряди, затем убила пару секунд на придание скульптурного совершенства расположению гимнастёрочных складок под поясным ремнём, затем (мгновенье проразмышляв) сняла пилотку, устранила какую-то неправильность в причёске, надела пилотку и опять стала тщательно заправлять под неё короткие непослушные волосы… А потом вдруг решительно уселась на поросший реденькой травою песок рядом с Михаилом. И заявила:
– Только не вообразите себе ничего этакого, понятно?! Вовсе мне не так уж хочется именно с вами возиться; просто нужно ещё раз вас осмотреть.
“Не вообразить этакого” Михаил согласился беспрекословно. Собственно, по его мнению пищи для воображения ситуация не оставила. Ситуация оставила пищу только для сожалений, типа: “эх, вот бы всё это годом раньше!..” Да, раньше… Не годом, так хоть бы месяцем… А теперь, судя по давешнему Зурабову срыву, как бы не слишком поздно.
Тем временем санинструктор решительно приступила к исполнению своих санинструкторских обязанностей:
– Сядьте прямо. И снимите вашу дурацкую фуражку! Вы в ней только спите, или купаетесь тоже?.. Так, руки перед собой, глаза закрыли, пальцем коснулись кончика носа… Своего носа, своего! Товарищ лейтенант, честное слово сейчас ударю! Так, другой ру… хорошо. Теперь зубы оскальте… Так, теперь язык… Да не оскалить нужно язык, а высунуть… остряк-самоучка… Сильней высовывайте… ещё сильней… ого! Так, теперь прижмите подбородок к груди… Э-э, вот только посмейте, как с носом – просто не знаю, что с вами сделаю!!!
Михаил вовсе не собирался позволять себе какие-то чрезмерные вольности, и Вешкино подозрение… нет, не обидело его (лейтенант Мечников, похоже, утратил способность испытывать к рыжей медичке какие либо негативные чувства)… не обидело, но очень удивило. А ещё удивляло раненого лейтенанта то, с какой лёгкостью даётся ему выполнение санинструкторских приказов и собственных неуместных дурачеств. Минут с пяток назад от резкого движенья чуть сознание не потерял, а теперь – ишь! Неужели аж так бодряще подействовало недавнее открытие? Или это Вешкина близость столь благотворно влияет? Ведь и раньше… Перевязку (в общем-то немилосердную) вынес даже без ойканья; а до перевязки во-он сколько времени ухитрялся лишь ПРИКИДЫВАТЬСЯ беспамятным…
– Ладно, – голос Белкиной (уж чересчур суровый, чтобы действительно казаться таковым) прервал сумбурные Михаиловы мысли. – Можете лечь. Кажется, я ошиблась: нет у вас сотрясения.
Она смолкла на миг; потом добавила тоном глубочайшего сожаления:
– Ну и слава Богу.
Мечникову не хотелось ложиться, ему хотелось безотрывно смотреть на свою лекаршу, так забавно и так неубедительно пытающуюся выглядеть сердитой. И ещё ему хотелось (вот, действительно, крайне умное да своевременное желание!) поддразнить Вешку: очень уж это потешно и трогательно, когда уши делаются под цвет червоно-золотым волосам.
– Всё же частовато вы Господа поминаете, – не сумел-таки Михаил удержаться от подначки. – И действительно крестик у вас – вон цепочку видно…
Санинструктор машинально вскинула пальцы к вороту гимнастёрки, который был у неё не по-уставному расстёгнут и вывернут на манер отложного. Мечников собирался ещё высказать предположение насчёт леченья раненых посредством святой воды, но не успел.
Вешка, оказывается, вовсе не застёгивать воротник собралась. Она собралась снять с шеи и показать лейтенанту-насмешнику то, что сперва комполка, а теперь и он посчитали нательным крестиком.
Это была какая-то бляшка, напоминающая старый-старый потемнелый пятак (только толще). Обхлестнув снятую цепочку вокруг запястья, Белкина приблизила нелепую подвеску к самым Мечниковским глазам, и подвеска, чуть отклонившись под ровным нажимом ветра, секунду-другую будто бы размышляла (стоит – не стоит?), а потом принялась раскачиваться – степенно, не частя, как-то уж слишком увесисто для такой мелковатой вещицы. Раненный лейтенант успел заметить на тёмной то ли бронзе, то ли чёрт знает чём, ещё более тёмные линии схематического скупого рисунка – нечто вроде шестерёнки с вписанной в неё плавной дугой (мельком вспомнилось виденое когда-то изображенье солнечного затмения из древне-чьей-то-там летописи)…
В следующий миг вокруг Михаила не стало ничего знакомого, привычного, объяснимого – совсем ничего не стало вокруг. А спустя может, секунду, а может, век, это новоявленное никакое ничто взорвалось, разметалось неохватной ковыльной далью, вспучилось бестравными крутыми откосами, и тут же придавило это собственное стремление ввысь тяжкой мохнатой твердью оседающего к земле предгрозового ненастья…
Что получилось?
Плоская осенняя степь. Свежий курган, лишь кое-где успевший подёрнуться скудной щетиной запоздалого травяного молодняка. Курган плосковерхий, будто бы впрямь смял ему вершину удар об вислое небесное брюхо – косматое, напряжённое, готовое в мучительной судороге вытолкнуть из себя неистовство какой-то вселенской бури.
А потом на просторной плоской вершине появились ОНИ.
Хлынувший с неба струйчатый вязкий туман мгновенно размыл, изглодал их, превратил в изменчивые плоские силуэты, а они метались, вскидывались, сшибались, будто встречные валы двух схлестнувшихся бесноватых штормов… Две гигантские лошадиные тени… Бледно-белесая и угольно-вороная…
Другие электронные книги автора Федор Федорович Чешко
Изверги




 0
0