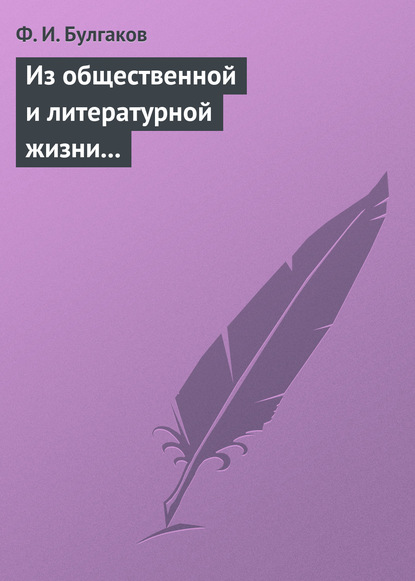По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из общественной и литературной жизни Запада
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(Семейство марширует трижды вокруг садика, распевая новейшую военную ульстерскую песню).
Муж. Превосходно. Теперь отправимся в верхний этаж и поупражняемся в защите гнезда наших предков!
Семья идет за ним и поднимается вверх три лестницы. Каждый член семьи кладет ружье на подоконник открытого окна и дает один выстрел за другим до тех пор, пока раздается сигнал главы семейства о превращении пальбы.
Является полицейский, который объявляет: Так нельзя, слышите-ли вы? Ведь ваши пули разлетаются во все стороны на половину церковного прихода. Приходили уже жаловаться в полицию.
Муж. Ну, ну, ладно, почтеннейший! Ведь мы готовимся для борьбы с биллем «Home-rule».
Полицейский. Ах, вот в чем дело? Правда? Ну, в таком случае, продолжайте свою стрельбу, желаю успеха! Право, я сам ульстерец. (Он убегает, а семья снова начинает заряжать)
«И это не фарс, – пишет один местный корреспондент, – тут только краски положены несколько гуще». Даже в пансионах юные девицы упражняются теперь в свободные часы, стреляя хлопушками и из маленьких револьверов в зажженные свечи. Некоторые граждане Бельфаста устраивают у себя в домах запоры, заказывают железные решетки на все окна и кишки для обливания «врага» водой из цистерны.
* * *
Что касается искоренения пьянства, то на очереди в английской палате общин имеется не менее десяти законопроектов об урегулировании торговли напитками, т. е. об уменьшении потребления алкоголя. В Англии, как известно пьянство развито в значительной степени. Англосаксы стяжали себе в этом отношении добрую славу. Лет тридцать, сорок тому назад домашнее пьянство, при закрытых дверях, было очень распространено и даже терпимо. А публичное пьянство в больших городах было так обычно, что по вечерам полицейские ограничивались уборкой пьяных мужчин и женщин (почти не уступавших в количестве своем мужчинам) в сторонке вдоль стен, чтобы они не мешали движению по улицам. В некоторых шотландских городах, как например в Гриноче, существовала муниципальная тачка (drunkard barrow) для развозки по городу этих отвратительных тюков. Даже средний класс и сама аристократия были заражены этим поровом. Один знаменитый роман «Life for a life», приписываемый г-же Грег, действие которого происходит в более высоком кругу, почти весь построен на ужасных последствиях пьянства.
В настоящее время пьянствуют меньше. А все же нельзя сказать, что пьянство исчезло. Знаменитые и недавние процессы свидетельствуют о том, что даже благородные лорды имеют обыкновение напиваться до бесчувствия.
Многочисленные и разнокалиберные общества трезвости с первыми сановниками государства и в особенности с аристократками во главе, подтверждают существование, и немного не достает, чтобы сказать – распространение этого зла. Наконец, столь часто по этому поводу присматривавшееся законодательство также доказывает, что общественные власти сознают необходимость постоянно заботиться о пьянстве.
Для предотвращения пьянства пробовали многое. Америка, которая также не изъята от такого порока, применила два средства. Одно заключается в безусловном воспрещении торговли, а другое – в возвышении пошлин на торговые патенты.
Воспрещением ничего не добились. Да оно и требовало чересчур многого. Кто пил, тот не перестает пить. Когда воспрещается открытая торговля, является тайный сбыт, который действительно так распространился, что полиция оказалась беспомощной и довольствовалась наложением штрафов. Доход с последних сделался регулярным и заранее дисконтировался в государственном бюджете.
Применение каждой из этих мер зависит не от федерального правительства, а от местных властей. И вот что из этого вышло. Поезд, положим, отправлялся к Атлантическому океану, к Тихому океану. Проезжали по штатам тут либеральным, там налагавшим запрещения. В либеральных штатах пробки взлетали сами собой, в остальных шкаф с напитками был опечатан властями. Но у гарсонов карманы были битком набиты медицинскими рецептами и пили, в виде лекарства (это не значит в умеренных дозах) то, что законом штата воспрещалось как яд.
Повышение пошлины на торговые патенты привело совсем к другим результатам. Когда пришлось за право открытой торговли платить по 200, 400, 800 и даже 2000 рублей, то многие закрыли свою лавочку. С уменьшением «салонов» – точнее, притонов – уменьшилось и число пьющих. И все остались в выигрыше: продавцы, клиенты, государство и нравственность.
Система, какую хотят ввести в Англии, совсем иная. Один из десяти вышеприведенных законопроектов – «Liquor traffic local Veto» – состоит в том, что выдача или возобновление свидетельств на право торговли зависит от решения избирателей округа. Баллотировка открывается по инициативе десятой их части, и если большинство участвующих в голосовании пожелает, то выдача новых патентов на право торговли и возобновление старых воспрещаются на пять лет.
Герберт Спенсер сказал, что законы не давали никогда тех результатов, каких от них ожидали, и наоборот, приводили к тому, чего от них никак не ожидали. Какие же могут быть неожиданные результаты этого права veto? Кажется, один из таких результатов имеется в наличности уже и в настоящее время: профессия избирателя округа, по крайней мере, на некоторое время, будет очень выгодной. Кабатчики, практикующие или надеющиеся ими сделаться, постараются сойтись с этими церберами, вливая в них целые бочки. Мало помалу, быть может, в конце концов veto достигнет уменьшения пьянства, но очень вероятно, что перспектива этого самого veto только усилит его.
* * *
Уже давно ни одно из «causes cеlеbrеs» не волновало так берлинских бюргеров и ученых, как второй брак Роберта Боха, знаменитого ученого бактериолога, главы науки о микробах. Дело в том, что «тайный советник», профессор доктор Кох развелся с своей женой, с которой жил в долголетнем браке, и женился вторично на юной актрисе. Об этом романе ученого Ромео, завершившимся самым заурядным бравом, ходили слухи в печати еще прошлой зимой. Слухи эти проникли в печать не из Берлина, а с итальянской Ривьеры и сообщались не в немецких газетах, а в парижских бульварных органах. «Echo de Paris», «Oil Blas» и «Gaulois» напечатали тогда заметки в таком виде: «г. Роберт Кох, отец бацилл, нашел своеобразный способ утешиться в своем горе, которое он должен был испытать, когда дело об его туберкулине приняло несчастный оборот. Недавно он похитил танцовщицу из главного берлинского театра и теперь на солнечном берегу Средиземного моря наслаждается прелестями медового месяца». В Германии никто тогда не поверил этой басне. Ни один из немецких корреспондентов в Париже не решился сообщить это известие своей газете даже с подобающей оговоркой. Только в начале нынешней весны стало известно и в Германии, что парижская «басня» вполне основательна. Единственная неточность в ней заключалась в том, что молодая дама, о которой идет речь, и которая теперь стала «тайной советницей Кох», была не танцовщицей, но актрисой, игравшей в «Berliner Theater» Барная.
Имя её Гедвига Фернбрюк. В кратковременный период своей театральной карьеры она не пожинала лавров. Она выступила в театре Барная, как «новенькая», и единственное, что в ней нравилось, это её свежая юность и красивые, огненно-рыжие волосы. её шевелюра напоминала русалку или Цирцею, как ее представляют себе парижские франты. Во всем прочем она считалась «beautе du diable»: большие голубые глаза, смеющийся, чувственный рот и сильно вздернутый нос. По носу ее можно бы принять даже за монгольскую красавицу. Рост её почти средний, стройность всей фигуры как у девушки, только что достигшей первой зрелости.
Самоуверенность осанки её, впрочем, не соответствовала её таланту. Она исполняла роли наивных девиц. Вскоре, однако, её имя исчезло из театральных афиш, и никто не скорбел о сем. Это было, по немецким справкам, в 1891 г. И только теперь объяснилось такое быстрое прекращение этой артистической карьеры. Юная дама перешла от ролей наивниц в роли любовниц и досталась такому Ромео, какой крайне редко может встретиться даже в богатой чудесами истории человеческого сердца и еще реже в истории строгой науки.
Разведенной первой жене Коха, по приговору суда, придется получать четверть его доходов. Новой «тайной советнице» Кох вместе с остальными ? достаются и пасынки, почти таких лет, что они могли бы сделаться её родителями.
4
Вильмесан, основатель «Figaro», сказал некогда, что «журналистика ведет ко всему, лишь бы уйти из нее». Теперь это подтверждается теми почестями и отличиями, какими официально жалуются журналисты в Европе. В Англии, напр., журналистика ведет в очень многому, уходишь ли из неё или остаешься в её рядах. В нынешнем Гладстоновском кабинете есть такой член, который прямо из-за письменного стола журналиста попал в министры. Это статс-секретарь по ирландским делам Джон Морлей. Из тех же, которые не пожелали бросить журналистику, многие в Англии повышены на поприще общественных рангов. Еще на днях, по случаю тезоименитства королевы, несколько журналистов сделаны баронетами и рыцарями (knights). Титул баронета наследственный. Поэтому он пригоден только людям более состоятельным. Не обладающие достатком получают титул рыцарей, который не переходит в потомство, хотя он древнейший из всех английских дворянских титулов, ибо сан Альфред Великий возводил своего сына в рыцари, как и теперь это делается: королева фактически ударяет мечем жалуемого ею достоинством рыцаря. Но в обыденном употреблении между баронетами и рыцарями нет различия: те и другие одинаково именуются «пэрами», а жены их «леди».
* * *
Во Франции журналисты допускаются даже к «бессмертию», т. е. попадают в члены французской академии, что считается там наивысшим литературным отличием. Недавно такой чести удостоился журналист Брюнетьер – критик «Reme des deux mondes». Этот 44-летний критик успел уже выработать свою систему анализирования литературных произведений, которая состоит в применении Спенсеровой теории эволюции в истории литературы, о чем дает полное понятие его собрание лекций в «Еcole normale» в сборнике под заглавием «L'еvolution des genres littеraires». Правда, критика есть скорее искусство, чем какая-либо особая наука. Всякая наука берется предсказывать. Астроном, напр., умеет наперед рассчитать, какие перемены должны произойти в светилах небесных, а критик не может извлечь из состояния прошлого и настоящего литературы ни малейших догадок насчет будущих перемен вкуса. Но, с другой стороны, историк искусства устанавливает общий закон эволюции, который можно проследить, положим, в истории музыки от народной песни до Вагнеровской оперы, или в истории романа, от восточного баснословия до крайнего разнообразия современных романов, иногда так верно отражающих многосторонние горизонты жизни.
Тем легче наблюдаешь эти последовательные превращения, когда изучаешь каждый в отдельности род литературы и прослеживаешь его особое развитие. Брюнетьер не только наметил себе метод, но и показал его применение в своих публичных беседах об «Эволюции французского театра», в своих чтениях об «Эволюции лирической поэзии в XIX веке». Ряд статей его на эту тему напечатан в последних №№ «Revue bleue». Этот метод требует сравнительного изучения литератур.
История французской критики показывает, что и к ней приложим тот же закон эволюции. У Монтэня и Байля критика остается еще неопределенной, кидающейся в эрудицию, биографии писателей и в анекдотичность. Ла-Гарп судит о всем по классическим теориям об абсолютно прекрасном. Поле французской критики расширяется лишь от знакомства с иностранными литературами – у г-жи де-Сталь, Шатобриана, Бильмана. Сент-Бёв заимствует приемы своей критики из естествознания, воссоздает личности в мельчайших подробностях, определяет отношения между индивидуальностью творчества, произведением автора и окружающими его обстоятельствами. По Тану, все это заменилось «средой», а история литературы представляется одним из самых важных документов для познания психологии народа.
Нововведение Брюнетьера состоит в том, что он изучает в литературном творчестве преимущественно влияние момента. Величайший гений есть не только продукт своего народа и своего времени, как это утверждается по Тэновсвой теории «расы» и «среды»; он есть также продукт накопленной суммы мыслей и произведений, ему предшествовавших. Влияние предшествовавшего творчества на любое поколение писателей значительно. Они проявляют свою оригинальность, они нередко ищут путей противоположных тем, по каким шли с успехом их непосредственные предшественники; но это самое искание нового определяется творчеством предшественников. «В каждый момент своей продолжительности, – говорит Огюст Конт, – человечество складывается более из мертвых, чем из живых». Мы как бы прикованы к мысли о покойниках, также как мы – узники темперамента, переданного нам предками. Это влияние прошлого – по замечанию Бурдо, – можно сравнить с влиянием наследственности в биологии. Таким образом Брюнетьер применяет к развитию литературных произведений теорию не только Спенсера, но и Дарвина. Изменения литературных жанров, по его мнению, совершаются подобно изменениям животных видов, путем наследственности, разнообразия, естественного подбора, борьбы за существование, долговечности более приспособившегося в жизни. Вот сколько дарвиновских формул! Конечно, их надо понимать только в смысле чисто метафорическом.
Кстати отметить, что такое строгое применение научных приемов даже терминов к литературным произведениям возбуждает уже своего рода реакцию. Против пользования научными методами вне области чистой науки горячо протестует Анжеллье в предисловии в пространному этюду о Роберте Бёрнсе. По мнению Анжеллье, совершенно напрасно тратить труд на попытки объяснить таинственное бытие гения. Пора вернуть вещам их обширную сложность, их необъяснимую запутанность и их кажущиеся противоречия. Другой французский сторонник эстетической критики и ярый противник научной критики, Дроз, в своей брошюре «La Critique littеraire et la Science» готов даже воспретить самое употребление технических терминов, которых Лейбниц советовал избегать, как «ехидн или бешеных собак». Дроз желал бы вычеркнуть из словаря честных людей всякие термины вплоть до слова «психолог», и уже по этому примеру можно судить о непримиримости этого эстетика. Короче сказать, такие критики, как Анжеллье и Дроз, суетности суждений предпочитают способность чувствовать и любить. С произведениями искусства случается тоже, что с любовью: как скоро начинаешь их сравнивать, так и превращается восхищение ими.
Вообще критика в новейшие времена понимается весьма различно. Бурже анализирует впечатление, производимое данным сочинением на его чувствительность. Фагэ в мыслях писателя старается выделить внутреннюю логику. Анатоль Франс передает читателю о «приключениях своей души среди шедевров». Жюль Леметр в современных пьесах отыскивает отражение подвижного образа новейшего изменчивого общества. Для Вогюэ всякая книга служит поводом в возвышенным размышлениям.
Критика Брюнетьера вполне гармонирует с его призванием. Он историк и диалектик, любит обобщения и широкие перспективы. Он ратует против индивидуализма и интеллектуального эпикурейства. Он пытается доказать, что критика обязана судить. Под этим разумеются не безапелляционные суждения, а уменье, по замечанию Сент-Бёва, «находить относительное в каждой вещи». Она обязана классифицировать произведения не по правилам слишком узким, а как желал Тэн – по их благотворному характеру. Наконец, Брюнетьер, увлекаясь историей, составил себе весьма высокое понятие о важности изучения французской литературы. Миссия историка и критика, по его мнению, заключается в беспрерывном охранении и возобновлении «культа шедевров, которые суть общие сокровища расы, свидетельствующие, из века в век, последующим поколениям о древности, величии и прочности отечества». Тогда как интересы, верования, идеи, разделяют людей друг от друга, искусство связывает их между собой. «По мере того, как религии, кажется, теряют почву, остается одно только искусство, чтоб служить противовесом демократическим и утилитарным тенденциям наших современных цивилизаций, чтоб поддерживать между нами симпатию и нравственную возвышенность». Таким образом выходит, что искусство, вследствие эволюции отделившееся от религии, в свою очередь стремится, в своих возвышеннейших проявлениях, сделаться одной из форм религии.
* * *
Настоящим торжеством для журналистики явилось чествование памяти отца французской журналистики Теофраста Ренодо, которому в Париже только что открыта статуя. Этот первый журналист был человек весьма замечательный. Уроженец Луденя (1575 г.), он, по окончании медицинского факультета в Монпелье, совершил поездки в Италию, Голландию и, кажется, еще в Англию. Затем он в Париже изучал химию. В столице Франции его поразила нищета, попадавшаяся ему на каждом шагу. Толпы нищих из бывших солдат требовали милостыни с оружием в руках. H?tel-Dieu, где дети умирали у грудей голодных матерей, была переполнена больными, погибавшими от тифа. Тогда-то у Ренодо и зародилась мысль о необходимости избавить несчастных от нищеты при помощи труда. Между тем Ренодо из Парижа переселился в свой родной город. Там он скоро приобрел известность, как врач, но не переставал работать над своим самообразованием. Там же близко узнал его Ришелье, впоследствии знаменитый кардинал – государственный человек. После смерти Генриха IV Ренодо в 1610 г. был приглашен ко двору. Уже в 1611 г. ему дана была королевская грамота, предоставлявшая ему право применять на деле все, что он считал нужным для блага бедняков, найденышей и больных. Но на деле филантроп встретил для себя большое препятствие в злой воле парижского полицейского префекта и потому снова вернулся на родину, где продолжал заниматься врачебной практикой.
Прошло 14 лет и только тогда он мог осуществить свои благотворительные идеи. Ришелье в это время достиг высшего могущества и по одному его слову устранялись всякие препятствия филантропическим стремлениям своего протеже. Для избавления себя от массы нищих французское правительство доселе не имело иного средства, помимо того, что скитальцев запирали в особые дома, где заставляли их исполнять тяжкие работы. Бедняки бунтовали, да притом не обреталось и денег на содержание подобных заведений. Таким образом нищие опять получили себе полную свободу. Ренодо решил открыть контору, в которой всем несчастным за три су, а совершенным беднякам бесплатно, давались бы указания, где найти работу. Дело здесь пошло успешно. И Ренодо задумал начать издание газеты. В ней должны были печататься иностранные известия, королевские распоряжения и трактаты, заключавшиеся с иноземными государствами.
Кардинал Ришелье сразу понял, какое значение могла иметь для него такая периодическая публикация при содействии лица, поддерживающего его политику. 30-го мая 1631 г. Людовик XIII пожаловал Ренодо «привилегию на составление, печатание и продажу новостей, известий и повествований о том, что происходило и происходит внутри и вне королевства». В тот же день появился и первый номер этой «Газеты» (Gazette). Газета Ренодо выходила еженедельно и состояла из 4-х страниц. В 1632 г. Ренодо прибавил в ней еще 4 страницы, под заглавием «Новости». Номер стоил один су. Тут уже Ренодо не довольствовался исключительно сообщением одних новостей. Он вел и полемику с завистниками, нападавшими на его юное предприятие. «Gazette» в политическом отношении находилась под непосредственным влиянием Ришелье и в ней сотрудничал сам Людовик XIII.
Успех Ренодо был блистательный. Это дало ему возможность учредить свои благотворительные консультации для бедных больных («Consultations charitables pour les pauvres malades»). Сперва по вторникам, а потом каждодневно, в его бюро собирались 15 врачей, друзей Ренодо. к ним являлись больные. В случае сложности болезни врачи совещались и совместно решали вопрос о лечении. Присутствовавшие аптекаря доставляли различные лекарства. Были тут и хирурги на случай операций. Из больных те, кто был с достатком, могли, по желанию, класть свою лепту в поставленный тут же ящик. Это шло на покупку лекарств для бедных. Из этих добровольных даяний бедняки нередко вместе с лекарствами получали и небольшие денежные пособия. Ренодо из личных доходов вкладывал в это дело по 2.000 франков в год. Врачи, сотрудники его, посещали бедных и на дому, по назначению Ренодо. Мало по малу парижский медицинский факультет проникся ненавистью к смелому новатору. Ренодо стали называть обманщиком и предостерегали от его средств. На стороне новатора был Людовик XIII и Ришелье, а парижский факультет опирался на парламент. Борьба эта длилась долго и велась с большим ожесточением. После смерти его обоих покровителей консультации пришлось закрыть. Но «Gazette» Ренодо осталась. Она уже настолько отвечала потребностям правительства, что прекратить ее не решались, особливо накануне фронды, и не дерзали поручить редактирование её кому либо другому, кроме Ренодо.
Впрочем, Ренодо был слишком горд, чтоб жаловаться на неблагодарность. Он и не думал мстить своим врагам. Он удалился в уединение и занимался исключительно редакцией своей газеты, отклоняя от себя всякое новое приглашение ко двору. Разбитый параличом он редактировал свою газету еще за два дня до своей кончины. Он, который имел столько случаев обогатиться, умер бедняком.
И так первый журналист был благодетелем человечества и его услуги проявлялись в различных областях. Контора справок о работах, ломбарды, бесплатная врачебная помощь бедным и многие другие общеполезные учреждения обязаны ему своим происхождением. Потомство теперь заявило ему благодарность, и на цветочном рынке в Париже, как раз в том месте, где некогда находились его конторы, воздвигнут памятник, увековечивший имя великого филантропа-журналиста XVII века.
* * *
Однако, напрасно было-бы думать, что журналистика зародилась во Франции. Честь этого изобретения давно уже оспаривалась семью городами – Антверпеном, Страсбургом, Франкфуртом-на-Майне, Фульдом, Гильдесгеймом, Эрфуртом и Штетином. А теперь явилась еще новая претензия. Ценкер, издавший «Beschichte der Wiener Journalistik» (два тома: первый – до 1848 г., второй – в период 1848 г.), доказывает, что в данном случае первенство принадлежит Вене. Там первая регулярная газета возникла в 1615 или 1616 г., тогда как в Фульде такая газета явилась лишь в 1618 г., в Эрфурте – в 1620 г., в Антверпене – 1621 г., в Англии – 1622 г., в Голландии – 1626 г. Но Ценкер, как историограф вполне добросовестный, спешит прибавить, что эти первые газеты далеко не имели того значения, какое выпало на долю знаменитой еженедельной французской «Gazette», и что Австрия не имела своего Ренодо. Этот энергичный человек понимал, что истинный журналист не удовольствуется опубликованием известий полезных для коммерции или занимательных для любопытствующих. У него должны быть помыслы высшего порядка и стремление сделаться своего рода особой в государстве, оказывать обществу и государству ценные услуги своим влиянием на общественное мнение.
Как свидетельствует Ценкер, уже в свои младенческие годы журналистика являлась ценным культурным средством, «создавая на обширные дали духовную близость, умственное родство и отсюда духовное единство, которое безусловно необходимо для великих деяний». Этим замечанием превосходно определяется назначение газеты, её великая власть. Кто из читающего люда не дивился подчас, держа в руках номер газеты, что вот в ту самую минуту, когда он пробегал газетный лист, делали тоже тысячи других читателей, интересуясь одними и теми-же мыслями или фактами? Назначение газеты – создать «духовную близость» между тысячами людей, отделенных друг от друга значительным расстоянием.
Власть эта признавалась самыми могущественными людьми. Наполеон I сильно скорбел о том, что он, который смирил всю Европу, ничего не мог поделать против «Times'а». Признание этой силы сказывалось и в том, что журналистику несчетное число раз считали ответственной за всякие напасти и беды. В новейшие времена этот клеветнический спорт поубавился значительно. Разве только тупые головы равных утаптывателей мостовых не перестают позорить прессу. Каждый-же здравомыслящий человек считается теперь с значением прессы и порицает только её уродов, какие есть везде, в бюрократии и в парламентах. Остается несомненным, что пресса сама по себе ни хороша, ни худа, но, как воздух и огонь, есть особый элемент, который при известных обстоятельствах может действовать разрушительно и без которого, однако, жить невозможно.
* * *
Но как-же зародилась и развивалась эта бумажная власть? Зачатки журналистики, как в Англии, так и в Голландии, как в Вене, так и в Париже всюду были одинаковы. Повсюду она нарождалась из рукописных новостей и из печатных реляций, появлявшихся по случаю каких-нибудь важных событий и притом в неопределенные сроки. Во все времена и во всех странах человек был любопытен до нескромности и постоянно стремился к тому, как-бы обмануть свою скуку. Но в средние века не было почты; это римское изобретение утратилось. Приходилось довольствоваться устными рассказами, переносившимися странствующими певцами, представлявшими собою живые газеты. Их была масса в Германии. Как выражается Ценкер, от Рейна до Одера и от Балтийского моря до Дуная переходили они из селения в селение, повествуя перед восхищенными и внимательными слушателями о том, скольких противников вышиб из седла такой-то рыцарь, какой пышный турнир устроил такой-то герцог, сколько колдуний и евреев сожжено было недавно.
Но с наступлением новых времен, с возобновлением почты, с изобретением книгопечатания, с возрождением наук и искусств, с развитием торговых сношений, со времени великих путешествий, с целью исследований, со времени Реформации и вызванных ею волнений во всей Европе – область предметов, возбуждающих человеческое любопытство, необычайно расширилась. В конце XVI века и в начале XVII в. страсть к новостям дошла до мании. Во всех Европейских столицах существовали господа, которые ставили себе в заслугу, если им удавалось пронюхать тайные помыслы государей, или в точности разузнать цифру казны и армии грансиньора. Из мании страсть к новостям превратилась в прибыльное ремесло. Вельможи нанимали себе разведчиков (это тогдашние репортеры), на обязанности которых лежало сообщать им слухи дня, закоулочные сплетни, назидательные или скандальные анекдоты, ходившие по городу. Они держали таких разведчиков, как держали метр д'отеля, кучера. Оплачивали их по истине скудно. Из приходо-расходной книги герцога Мазарини видно, что он платил Портайлю по 10 ливров в месяц «за новости, доставлявшиеся им еженедельно по приказанию монсеньора». Монсеньор, без сомнения, получал их в изобилии за свои деньги. В некоторых кружках составлялись списки собранных новостей. С этих списков снимались копии, распространявшиеся во множестве экземпляров. Вскоре эта потаенная торговля была урегулирована. При каждом кружке составилось свое редакционное бюро, явились свои провинциальные корреспонденты и платные абоненты. Таким образом, от рукописных новостей до газеты оставался всего один шаг. Груша назрела и на долю француза Ренодо достался лишь труд сорвать ее.
Рукописные газеты, наполненные сплетнями, злословием, посвящали своих абонентов в придворные интриги, мелочные факты, в закулисную сторону политики и заальковную жизнь. Интересовавшиеся подробностями великих событий находили их в печатных отчетах, именовавшихся в Германии «Neue Zeitungen» и продолжавших усиленно распространяться в течение всего XVI века. Важные открытия, придворные празднества, военные приключения, военные события, казни, процессы колдунов и колдуний, метеоры и кометы – таковы были разнообразные сюжеты, трактовавшиеся в прозе или в стихах этими журналистами.
Если верить Ценкеру, первые печатные отчеты появились в Вене, и это неудивительно. Вена, как императорская столица, была центром Европейской политики. Сюда съезжались государи и принцы, и задавали тут себе грандиозные празднества. Сверх того, здесь же раньше других стран явились представители по искусству книгопечатания, пользовавшиеся большой известностью, да и почта австрийская не уступала почте наиболее передовых стран. Начиная с XVI века в Вене установилась отправка курьеров в определенные дни в Грац, Линц и другие города, а с 1516 года заведены были регулярные сношения с Брюсселем.
Самый старинный из сохранившихся таких отчетов относится к 1488 году. Это бюллетень, предназначавшийся для успокоения народа на счет здоровья эрцгерцога Максимилиана, находившегося тогда узником в Брюгге. Другой бюллетень 1493 года повествует о погребении императора Фридриха III.
Впрочем, хроникеры интересовались не только императорами и государями, золочеными их каретами или победами и поражениями Оттоманской Империи. Они рассказывали также о голоде, о появлении косматых и вещих небесных светил, о чудесном размножении ехидн и ящериц, о приключениях и преступлениях, об истории одной женщины, проданной мужем разбойникам, а также одной молодой служанки, продававшейся дьяволу на шесть лет и которая в один прекрасный день исчезла в облаке пыли на глазах изумленных зрителей. Часто один и тот же летучий листок заключал в себе несколько рассказов. Из него узнавали, наприм., что в некотором Венгерском городе одна женщина разрешилась ребенком с тремя головами, тремя руками и тремя ногами, а также, что турки принуждали христианских своих пленников поклоняться кошке, повешенной на кресте. Первоначально всякий имел право печатать бюллетени и рассказы. Впоследствии это право стало привилегией, монополией, жаловавшейся известным издателям, представлявшим гарантии правительству. Эти издатели вскоре решили печатать свои бюллетени в определенные дни, когда отправлялась почта. С тех пор в Вене явились печатные периодические газеты. Около 1620 года таковых там было три. Не мудрствуя лукаво, их окрестили именем «Ordentlichen Post-zeitungen», «Ordinari Zeitungen», «Ordentlichen Zeitungen». Что же касается до рукописных газет, то, несмотря на воздвигнутое на них гонение, они существовали еще очень долго, сохраняя за собою прелесть запретного плода. Написать можно многое, чего не напечатают, а на контрабанду всегда большой спрос.