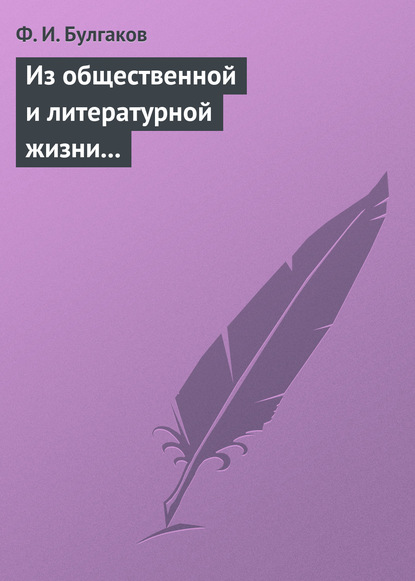По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из общественной и литературной жизни Запада
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Курбузон (раздраженно). Леплюше чижик! Я ему не дам ни единого су и при первом случае вытолкаю его за дверь, этого Леплюше! Ясно? (Снова поднимается).
Флипот (опять принимаясь всхлипывать). Боже! как я несчастна!
(В ответ на умоляющее движение тетки Курбузон опять возвращается).
Курбузон. Нет, я не могу так уйти…. она положительно обезоруживает меня…. Утешьтесь, Флипот, мне пришла мысль…. Вы хотите, чтобы Леплюше прибавлено было жалованья? Так прибавьте ему сами.
Флипот (не переставая плакать). Каким же это образом?
Курбузон. Очень просто. Я предложу ему ангажемент на пять – на шесть тысяч – цифра для меня безразлична – которые я обязан буду взять из своей кассы, но которые вы примете в уплату вашего жалованья. Таким образом и уладится все.
Флипот. А как-же мое жалованье, по-прежнему будет полторы тысячи и пятьдесят разовых.
Курбузон. На бумаге, да…. вам придется только дать мне маленькую контр-росписку.
Флипот. Тетя, кажется, так можно устроиться?
M-lle Англошер. Ну и устраивайся, дитя мое.
Курбузон. И так, мадам Леплюше, будьте любезны сами назначить оклад вашего супруга. Пять тысяч? Восемь тысяч? Десять тысяч?
Флипот. Пяти тысяч довольно, не правда-ли, тетя?
M-lle Англошер. Предоставляю тебе решить, дитя мое.
Флипот. Да, так довольно, пятьсот в месяц.
M-lle Англошер. На один год!
Курбузон. Решено.
Флипот. Решено.
Курбузон. И так, до завтра! Все будет готово. Постарайтесь только прийти раньше Леплюше.
Флипот. Ах, милейший г. директор, как я вам благодарна…
Курбузон. Право, не за что. (Уходит).
Флипот выходит замуж за своего товарища Леплюше. Она любит его до тех пор, пока чувствует свое превосходство над ним. Но случается так, что Леплюше, играя роль кретина, имеет успех в одной пьесе, где ее самое принимают дурно. Любовь Флипот не переживает этого оскорбления для «jalousie de mеtier»; супруги расходятся. Супругу возвращается его независимость, а супруга принимает дворец, предложенный ей бароном des Oeillettes, её поклонником, которому покровительствует добродетельная тетушка артистки. Таков финал комедии, согласный с особенной логикой, управляющей театральными нравами и закулисным миром…
2
Современное цивилизованное человечество видимо усердно старается совершенствовать не только свои учреждения общественные, но и свою душу, свою совесть, свою внутреннюю жизнь. Во Франции рядом с пессимизмом и атеизмом народилось мистическое влечение в религиозности и ведется пропаганда нравственных идей. В Англии агитируют в пользу «внутреннего христианства», которое разъясняется в массе брошюр назидательного содержания, расходящихся сотнями тысяч. Из Соединенных Штатов, страны, которую европейцы привыкли считать родиной самой беспощадной борьбы за существование, ареной погони за наживой, переносятся в Европу проекты чисто идеального характера. Именно в Америке было положено начало «обществам нравственной культуры», долженствующим содействовать обновлению современной души и протестовать против девиза новейшего эпикурейства: «презирай ближнего как себя самого». В последнее время это движение перешло и в Германию.
В Нью-Йорке, Сан-Луи, Филадельфии, Чикого, Лондоне, Берлине, Киле, Магдебурге, Страсбурге, Франкфурте общества нравственной культуры ведут борьбу, цель которой – возродить в человечестве веру в себя. Книги, брошюры, газеты, публичные лекции поведали эту добрую весть миллионам созданий, вероятно, слушающих с удивлением и недоверием такие речи ? la Жан-Жак Руссо, совершенно новые для большинства из них: «мы слишком плохого мнения о людях. В глубине всех нас существует высшая натура, но к ней редко обращались доселе, и потому-то уровень нашей нравственной жизни остается столь низким. Дерзнем же обратиться к добрым сторонам человека, потребуем от него, чтоб он был справедлив во имя долга и совести, и мир изумится тому, чего мы достигнем».
Не разъясняется, откуда главари этого любопытного движения почерпнули свою «веру в человеческую природу» и в благость творения? Наблюдение фактов современной жизни заставляет их энергически трактовать о приниженности характеров, о процветании ненависти между классами, об ужасающей анархии совести, о нравственной гнилости высших классов. Но во всяком случае общества нравственной культуры не допускают, чтоб зло это было неизлечимо. И эта пропаганда, организованная с успехом, одному берлинскому обществу дала уже до 800 членов. Это «общество» имеет в виду обновить нравственное воспитание германской нации, которое держится теперь на идеях ложных. По словам сторонников этого движения, до сих пор всевозможными средствами старались в Германии совращать совесть. Приходится исправлять зло, для чего необходимо приняться за нравственное обучение юношества, создать новую народную литературу, учредить музеи и выставки, публичные курсы и лекции, неустанно твердить всем немцам, молодым и старым, образованным и необразованным, всеми средствами, какими обладает печатное дело, что десять веков их обманывали и что в каждом из нас есть несокрушимый и священный зародыш, из которого может произойти доброе и хорошее.
* * *
И вот в дни таких-то высоких стремлений к нравственному совершенствованию появляются книги, серьезно выставляющие опасность нравственных учений во всех их оттенках. Не верите, перелистуйте книжку Адольфа Гереке «Die Aussichtslosigkeit des Moralismus». «Нет ничего глупее, как идея нравственности, – утверждает автор. – Всемирная история учит нас, что народ нравственный – почти всегда народ без ума, он не создает ничего и не прогрессирует. Желания, стремления к наслаждению и интенсивное чувство наслаждения, без всяких моральных опасений, – вот почва, на которой вырастают и распускаются самые блестящие цветы духа».
Подобные разглагольствования не заслуживали бы ни малейшего внимания, если бы они не были в сущности лишь слабым эхо самых модных доктрин новейшей философии, которые громко проповедуются их последователями и пытаются взять верх над другими течениями общественно-нравственного содержания. И действительно, с недавнего времени входят в моду теории двух немцев, Макса Штирнера и Фридриха Ницше.
Философия и мода – два понятия, на первый взгляд взаимно исключающие друг друга. Самое сопоставление таких понятий может показаться неучтивостью. Философия ведает вечные истины, а мода представляет собою нечто до такой степени эфемерное, что французы именуют ее «le ridicule de demain». А между тем и в философии бывают свои моды, как есть моды на шапки и галстуки. Эти философские моды объясняются многими причинами – манией противоречий, потребностью в переменах, нетерпеливостью, с какою каждое новое поколение стремится упрочить свое значение во вселенной и, отвергая сделанное предшествовавшим поколением, пытается революционировать мысль и вкусы, сокрушить недавние культы, воздвигнуть новые алтари.
Как бы то ни было, но самыми модными метафизическими кумирами ныне оказываются немцы Штирнер и Ницше.
* * *
Макс Штирнер жил в полной безвестности. Биография его не сложна. Уроженец Байрейта (1806 г.), он, подобно Фаусту, изучал теологию, потом филологию и философию, и большую часть своего существования провел в Берлине, преподавая в среднеучебных заведениях и бегая по частным урокам. В 1845 году он напечатал в Лейпциге сочинение под заглавием довольно туманным «Der Einzige und sein Eigenthum» (Индивидуум и его права). Оно возбудило некоторую полемику, но автора не обогатило. В 1856 году Штирнер умер неведомым бедняком.
Первые проблески его посмертного ореола показались десять лет назад, когда появилось второе издание названной книги. Чтоб понять Штирнера, надо вспомнить о системе Гегеля. Этот теоретик проповедывал в Берлине государственную философию. Доктрина его была консервативная, но метод – совершенно противоположного свойства. Он учил: «нет принципов, но есть факты; нет морали, но есть нравы». Последователям своим он оставил обоюдоострое оружие своей диалектики, которая, будучи пущена в ход, уже не останавливается ни перед чем в своем анализировании. Как червь, этот дух анализа подтачивает в корне и чувство и ум. Давид Штраус пользуется им для подрыва и разрушения догматов церкви («Жизнь Иисуса» 1835 г.). Вслед затем Фейербах, упрекая Штрауса и Бруно Бауера в трусости и малодушии, сам ополчается на религиозные чувства. Религия у него превращается в культ человечества. За Фейербахом выступает Штирнер и пытается сокрушить идол «Человечество», заменив его культом личного «я». Этот гегелианец доказывает, что «человечества не существует, что человек не должен подчиняться ничему вне себя, будет-ли это божество или человечество, и что, наконец, нет иных прав, кроме прав личности». Это личное «я» есть начало и конец всего.
Говоря от имени какого-то человеческого существа, Штирнер прибавляет: «Я не подчинен духу, дух и тело могут быть только качествами „я“, свойством „я“. То, что называют свободой духа, есть порабощение „я“, ибо „я“ есть более, чем тело и дух. Для определения „я“ в языке не хватает слов. „Я“ невыразимо… Я не могу считать себя индивидуальностью наравне с другими индивидуальностями, но именно единственной индивидуальностью существующей для „я“. Все прочее, люди и вещи, есть мое добро, моя собственность, в той мере, насколько сила моя позволяет мне присвоить это и насколько я желаю присвоить это себе».
Уже по этой исходной точке зрения легко угадать, что должно сделаться со всеми нравственными идеями, составляющими действующую человеческую мораль. Самая идея свободы ставится в зависимость от боготворения индивидуальности. «Бываешь свободен в той мере, в какой обладаешь силой; истинная свобода только та, которую берешь сам себе». Государство, религия, гуманитарность, социализм, все это исчезает перед верховным «я», не принимается им в расчет. Слова право, долг, нравственность не имеют смысла. Самое слово «истина» не означает ничего. «Мысли создают „я“, они не „я“. Верить в истину значит отречься от „я“».
Но «я» Штирнера, т. е. каждая отдельная личность, не имеет ничего общего с отвлеченным «я» Фихте, «я» величающимся перед природой и смиряющимся перед законом нравственным. Эгоизм Штирнера совершенно отрицает нравственность. То, что разумеют люди под этим понятием, есть только химера. Именем этой химеры те, кто руководит и наставляет других, педагоги, как вожаки медведей, заставляют людей плясать под их дудку, принуждая их к таким штукам, каких свободное «я» их не допустило бы никогда.
* * *
Однако ж, этот радикальный индивидуализм отличается от грубого эгоизма тем, что Штирнер не отрицает так называемых альтруистических чувств. Он только отказывается придавать им характер обязательности: «я не признаю никакого закона, я люблю каждого человека, потому что это мне нравится, потому что это делает меня счастливым и потому что я вовсе не помышляю жертвовать собою ради него, а может быть также и потому, что я могу больше получить от людей добротой, нежели суровостью. Я люблю свою возлюбленную и подчиняюсь сладкому велению её взора – также из эгоизма… Я питаю сожаление ко всякому существу, которое может чувствовать, и его муки мучают меня, его удовольствие мне приятно, я могу его убить, но не замучить», и все это – не лишаясь спокойствия своей совести, ибо порока не существует. Так как всякие правила – вещь чисто воображаемая, то мы и не можем нарушать их. «Мы вовсе не грешники, мы совершенны, ибо в каждый момент мы бываем всем тем, чем можем быть… Наконец, у меня нет ни назначения, ни призвания, как и у цветка. Я не привязан ни к чему. Я только отстаиваю право существовать лишь для себя, пользоваться миром, жить счастливо. Все, что я могу взять и удержать за собой, принадлежит мне, становится моей собственностью. Для меня все средства законны: убеждение, мольба или насилие, ложь, обман, лицемерие; только сила поддерживает мое право. Что мне за дело до блага народа? Мне нужно мое собственное. Свобода существует только в силу эгоизма. Собака видит кость у другой собаки. Если она не отнимает ее, то единственно потому, что чувствует себя слишком слабой. Но человек уважает право другого на кость. Это считается гуманным, а противоположное тому – актом грубости или эгоизма. Не говорите же мне о справедливости и общем благе! Что мне делать с общим благом… Общее благо, как таковое, не мое благо… Общее благо может ликовать, тогда как я должен изнывать… Общество может благоденствовать, в то время как я умираю с голода. Эгоизм не будет удовлетворен тем, что ему дадут во имя общих интересов. Он скажет просто: бери себе то, что тебе нужно».
И так нет общественных обязанностей, есть только личные интересы. «Пусть гибнет народ, – восклицает Штирнер, – лишь бы свободен был индивидуум! Пусть гибнет Германия, пусть гибнут все нации европейские, и человек, избавившись от всех своих уз, наконец получит свою полную независимость!»
Штирнер таким манером водружает верховенство своего «я» на развалинах всякой власти божеской и человеческой. Нерон, когда он сжигал Рим ради своего собственного удовольствия, Людовик XIV, когда он, окруженный своими придворными, говорил «государство это – я», они кажутся скромными существами в сравнении с этим гегелианцем, философствовавшим в одиночестве на своей берлинской мансарде на тему: «Вселенная, это – я. Homo sib Deus (человек есть Бог для себя)».
* * *
Историки философии упоминают об этой книге Штирнера лишь как о курьезном продукте гегелианской софистики, а самого автора её зачисляют в разряд виртуозов диалектики, ловко пляшущих на натянутой веревке парадоксов и жонглирующих равными отвлеченностями. Ведь и «индивидуум» Штирнера только отвлеченность. «Единственные», уники бывают только в домах умалишенных. Всеми своими потребностями, своим воспитанием, своей деятельностью мы зависим от других. «Никто из нас, – прекрасно замечает по этому поводу один критик – не имеет права быть безусловным хозяином своих действий и даже своих мыслей, потому что нет ни одного из нас, кто бы не принадлежал обществу столько же, сколько и себе самому в силу того, что он обязан обществу благодеяниями в прошлом и требует от него помощи или поддержки в настоящем…»
Даже в шайках злоумышленников, когда дело идет о дележке награбленного, индивидуум должен подчиняться известному правилу, поступаться долей своей личной выгоды. Штирнер как бы забывает, что жизнь и деятельность человеческая имеют свои существенные законы, что недостаточно одного резонерства, чтоб их уничтожить; он явно забывает, что государство основано не на призрачной идеи, а на неизживном инстинкте сохранения личностей. Так как человек животное общественное, которое не может жить в одиночестве, то и надо, чтоб он, давая своему личному эгоизму надлежащую долю удовлетворения, делал уступки потребные для эгоизма других, в ком он нуждается. Тут может быть только вопрос о размерах, но никоим образом не об исключительном выборе. Предполагать же возможным все свести к «я», значит, допускать заблуждение, какое может зародиться только в узких умах, которые видят лишь одну сторону вопроса, тогда как их две, и они неразрывны. Подобные софизмы не имеют никакого практического значения, потому что сила вещей всегда призовет к порядку тех чудаков, которые пожелали бы пренебречь им. И действительно, если бы Макс Штирнер, который в сущности был человек мягкого характера, миролюбивый, трудолюбивый и жил всецело экзальтацией своего отшельнического мышления, если бы он попробовал применить на деле свои теории, то полиция и судьи Берлина скоро напомнили бы ему о чувстве реального, которое философы утрачивают так охотно.
Однако, книга Штирнера не лишена некоторого исторического значения. Из всех сочинений гегелианской левой, поднимавших пыль столбом в ратовании против алтарей и тронов, она особенно резко выражает протест этой школы против укротительной дисциплины прусского государства до 1848 г., она осмеивает этот трусливый либерализм, не осмеливавшийся подавить свободу силой. Прудон, современник Штирнера, также ужасал своими радикальными формулами буржуа времен Луи-Филиппа. У них поднимались волосы дыбом, даже когда они носили парик. Но Прудон требовал автономию личности скорее, как средство, а не как цель, скорее как гарантию для возможного осуществления своих экономических мечтаний, чем как основу счастья. И в глазах Штирнера Прудон, как и сам Робеспьер, оказывается ханжой и лицемером, хотя французский философ вместе с этим гегелианцем считается провозвестником революционной бури 1848 г.
Парение Штирнера в заоблачных сферах метафизики по-видимому имеет сходство с доктринами самых вульгарных анархистов. В анархистских брошюрах можно найти такие-же идеи лицемерного бандитизма. Кажется, и Бакунин некогда делал значительные позаимствования из книги «Der Einzige und sein Eigenthum». Но, не говоря уже об извращенном изложении штирнеровских идей наивными проповедниками анархизма, автор все-таки отличается от них в своих выводах. Гг. анархисты никогда не забывают прибавить, что, коль скоро индивидуализм избавится от всякой узды, весь мир будет счастлив и люди станут обниматься друг с другом, как ангелы и избранные на картине «Рай» фра-Беато Анджелико. А Штирнер довольствуется заявлением, что каждая индивидуальность, чувствуя свое бессилие в присутствии других индивидуальностей, без сомнения, пожелает соединиться с некоторыми из этих других, группами свободно условленными, где у каждого будет одна только мысль: свой личный интерес. В результате получается эксплуатация всех каждым, эксплуатация лицемерием, как главным оружием, потому что сила физическая каждого должна быть весьма незначительной в сравнении с самой маленькой коалицией против неё. Штирнер, более последовательный, чем нынешние анархисты, не желает решительно ничего. Он заключает свою книгу такими словами: «не из любви к людям, не из любви к истине, я выразил свою мысль в этом сочинении. Я писал только для собственного удовольствия. Я говорил, потому что у меня есть голос, я обращался к людям потому, что мне нужны уши, для того, чтоб мой голос был услышан».
Но представьте себе общество, составленное из этих уников («Einzige»), где каждый не имел-бы иного права, иной поддержки, кроме собственной силы. Оно, наверное, кончило-бы тем, что самый сильный уник свалил-бы других, стал бы выше всех, эксплуатировал бы их в свою пользу. Исходя из того принципа, что человек – волк для человека (Homo homini lupus), некогда Гоббес, как очевидец междоусобий своего времени, пришел в неизбежному заключению о необходимости основать деспотическое государство. История освятила эту теорию. Когда государство впадает в анархию, когда нет более партий, а есть только заговоры, «синдикаты эгоистов», где каждый помышляет только о своем собственном интересе и своей мстительности, тогда, в момент психологический, видишь, как на сцене появляется какой-нибудь превеликий эгоист, диктатор, цезарь, с тем, чтобы укротить все соперничающие эгоизмы, дисциплинировать их, привести к добыче, резне и погрому.
Любопытно, однако, что этот новый расцвет антиобщественного парадокса переносится и в новейшую беллетристику, как показывает самое недавнее произведение Мориса Барреса, «l'Ennemi des lois», посвященное культу «я». Но, с другой стороны, это, быть может, симптом небезотрадный, свидетельствующий о том, что в революционерной философии возник раскол, разделивший ее на две непримиримые школы – одна стремится пожертвовать личностью для общества, а другая наоборот – отстаивает безусловные права личности против общества.
* * *
Гораздо труднее резюмировать на нескольких страницах идеи Ницше, которые имеют уже и легион комментаторов, особливо в Германии и Скандинавии. Ницше не рассуждает критически и логически, подобно Штирнеру. Чаще всего он выражается афоризмами, иногда апокалипсическим стилем, восклицает с гневом или презрением, иногда же довольствуется ироническими вопросами. Среди смутных фраз зачастую прорываются лирические отступления, поразительные поэтические образы, порывы страсти, не лишенной величия. Ницше приближается в Шопенгауэру, но вместо того, чтобы все резюмировать в «воле к жизни» (Wille zum Leben), как делал это франкфуртский философ, Ницше все сводит к «желанию властвовать» (Wille zur Macht).
Прежде всего кажется странным, что основанные на такой точке зрения сочинения служат восторженнейшей защитой свободы. Но это вполне логично. Ницше желает видеть мир избавленным от всяких препон морали и вековых предрассудков, он взывает в самой необузданной свободе, но просто для того, чтобы в каждую данную минуту существа, обладающие основными качествами властвования, порабощали других. Он признает две морали: мораль рабов и мораль властелинов. Человечество до сих пор повиновалось первой, говорит он, а стоит подчиняться только второй. «Ничего нет истинного, все позволяется». Для Ницше, как и для Штирнера, слова истина, нравственность, благо, право и пр., не имеют никакого значения.