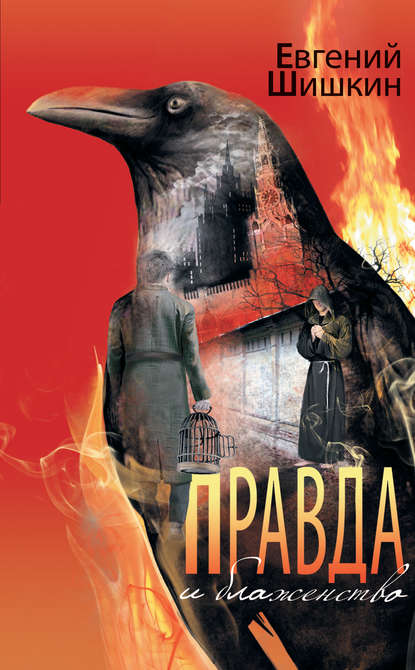По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Правда и блаженство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вскоре – топот каблуков в коридоре. В горницу ворвался Панкрат. Светлые волосы – в растрёп, глаза бегают ошалело, кулаки стиснуты, а речь плоха, из кривых ярых губ несвязно рвутся:
– Хулиганы! Уголовники! Навыпускали вас… Людям покою нету.
Семен Кузьмич, хоть и мелок по сравнению с гостем, отчаянно храбро подскочил к нему, полез на рожон:
– Ты что же, гнида красная, незваным в дом прешься?
Панкрат яростно заревел:
– Обзываться? Не дам! Статья есть! Опять посажу! За хулиганство упрячу!
– Вот выкусите, дятлы деревянные! – Сразу пара кукишей оказалась под самым носом Панкрата.
Панкрат замахнулся на старика, а Семен Кузьмич резко отпрыгнул и, глянув на стол, не найдя поблизости подходящего оружия, хвать вилку:
– Кровью умоешься, сука продажная!
Панкрат в ответ схватился за табуретку, но поднять, замахнуться не успел – тут запищала брошенная гармонь, Василий Филиппович кинулся вразрез склоке, отделил враждующие стороны. Валентина Семеновна уцепилась за панкратову табуретку.
– Хватит вам! – с обидой воскликнул Василий Филиппович. – Что же вы, мужики? Сколь можно? Русский на русского? Разве не наубивались? На войне немец бил, а здесь свой своего?
– Охлынь, Панкрат. Обида в отце сыграла… Посиди-ка десяток годов не за што не про што, – урезонивала Валентина Семеновна. – Но нечего прошлое ворошить. Лучше б смирились.
– Выпейте по чарке, мужики. Остыньте, – призвал хозяин.
Панкрат более не петушился, но сразу ушел, порывисто и непримиримо, бурчал себе в коридоре: «Сталина бы на них поднять! Совсем развинтились…»; застольничать с обидчиком и поднимать заздравную чарку, разумеется, отказался.
Семена Кузьмича, в свою очередь, корила дочь:
– Ты что ж, отец, неужель до поножовщины опустился?
– Дятлам деревянным глотку перегрызу! – взъедался непокорный Семен Кузьмич.
Пашка и Лешка, побледнелые, остро пережившие бузу, когда от стола пришлось отпрянуть в угол, перешептывались:
– Надо было бутылку в него кинуть, – говорил Лешка, сверкая глазами.
– В кого? – чуть подрагивали Пашкины губы.
– В Панкрата Большевика!
– Дед сам виноват, – судил Пашка. – Вон как обзывается. Любому станет обидно.
– Все равно… Дедка-то наш.
– Наш не наш. Надо по-честному всё, – твердил старший.
Когда вернулся со свидания Череп, горячечный от раздора воздух в доме уже поостыл, страсти улеглись. Увидав за столом Семена Кузьмича, он выбросил вперед указательный палец:
– Папа?
– Ну! – отозвался Семен Кузьмич.
– Папа! Хрен тебе в лапу! – радостно завопил Череп. – Да я же тебя на берегу видел. Идет какой-то старый хмырь с мешком…
– Да и я тебя, сынок, видел, только не признал. Гляжу, какой-то фраер шалашовку клеит…
Оживление и гулянка вновь взыграли. Какая сучара, какие дятлы деревянные посмеют посягнуть на святое: встречу отца и сына! Однако Валентина Семеновна, дабы избежать новых разборок с соседом Панкратом, выпроводила отца и брата в уличный сарай:
– Вот матрасы, одеяла… Ночи еще не холодные. С выпивкой не замерзнете… Там топчан и раскладушка. Керосинка заправлена… Моего Василь Филиппыча не смузыкивайте, ему на работу в рань… Ты бы, Николай, гитару-то не брал… Тогда потише горло-то дерите. – Валентина Семеновна потянула брата за рукав, под секретом спросила: – Ну, как с Симой-то? – А чё с Симой? – отвечал, ухмыляясь, Череп. – Зря она боялась. Даже платье не помялось… Платье крепдешиновое! В сарае отец с сыном разгулялись на всю катушку – почти пятнадцать годочков друг дружку не видели: когда Семена Кузьмича упекли, Николай еще юнцом был. Пили, пели песни. Опять пили и пели. Песни все заковыристые. Солировал главным образом Череп. Семен Кузьмич на подпевках.
Пусть работает железная пила, – пила!
Не для этого нас мама родила, – дила!
Пусть работает железный паровоз, – воз! воз!
Не для этого он нас сюда привез, – вез! вез!
Или такая, с уркаганским привкусом. Тут и гитара звучала блатным боем «восьмерки».
Иду я по бану, гитара бренчит,
За мною вдогонку шалава бежит…
Или более лирические, но с политическим уклоном.
Снег валил буланому под ноги,
В жопку дул Хрущеву ветерок…
Встречались и вовсе экзотические произведения, видать, привезенные Черепом из заморских стран. Эксцентричность сыновних мотивов и текстов захватывала и Семена Кузьмича, он подпевал со всей душой. Его веселый синий квадратный рот открывался, чтобы выдать подпев. Плешь радостно и потновато отблескивала. Свет керосинки лохматил по стенам сарая, где всюду хлам, самозабвенный дуэт.
Я иду по Уругваю
(Семен Кузьмич: – ваю, – ваю),
Ночь хоть выколи глаза.
Слышны крики попугая
(Семен Кузьмич: – гая, – гая),
Обезьяньи голоса.
– Лихо там у них, в уругваях! Дятлы деревянные! – веселился Семен Кузьмич, песенно побывав с сыном аж в самой Южной Америке. – Наливай-ка стопарь!
– Да как не накатить в такую свиданку, елочки пушистые! – ликовал Череп. – Можем в кабак на бан ломануться. Там круглые сутки отоварка. Шмары тоже прилагаются. А то, батя, как-то мутно сидим. – Он окинул взглядом поленницу дров, лопаты, лом и окучник в углу и прибавил огоньку в керосинке. Но керосинка задымила синё и подло. – Валентина, ишь, нас в сарай затёрла…
– Перекантуемся, – буркнул Семен Кузьмич. – Сосед у нее пёс…
Узнав от отца в подробностях о крикучей стычке с Панкратом Востриковым, «большевиком ссученным», Череп выскочил из сарая и прокричал на весь двор:
– Панкрат, выходи на бой! Я тебе, красноперышу, чичи потараню! Шнобель твой большевицкий отрихтую!
Череп целил в самые болькие панкратовы места: и перья красные… и шнобель. Нос у Панкрата крупный, мясистый, Панкрат своего носа стеснялся, перед зеркалом себя разглядывать не любил. И хоть слыхал от местных старушенций пословицу: «Нос-от долог, дак и человек-от дорог», но утешался мало. Даже отрастил немаленькие усы, чтоб скрасить ими величину носа, результат вышел сомнительный, но усы Панкрат щипал, крутил, когда нервничал. Сейчас Череп над ним – и над личностью, и над носом – безжалостно, в открытую издевался.
Панкрат почти всю ночь не спал, от злобы накручивал усы. Жена Елизавета тоже не смыкала глаз, цепко и ласкательно держала его за руки, умолительно наставляла: