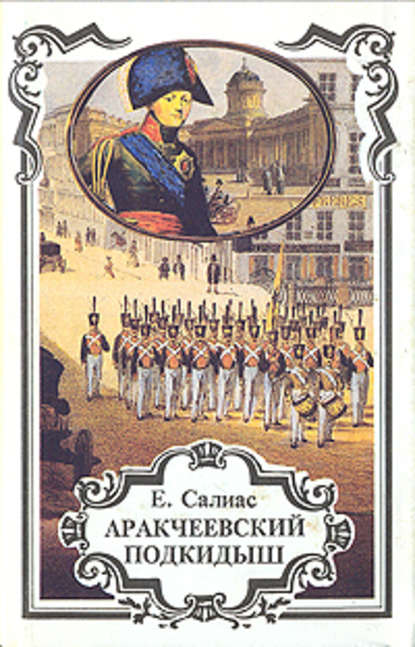По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский подкидыш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Аракчеевский подкидыш
Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир
«Аракчеевский сынок», «Аракчеевский подкидыш» – романы Е.А.Салиаса (1840–1908 гг.), популярного писателя, которого современники называли «русским Дюма», впервые опубликованы в журнале «Исторический вестник» за 1888–1889 гг.
В центре повествования молодой красавец-офицер, любимец общества, которому все сходит с рук благодаря его влиятельному отцу. Интрига, любовь, веселые пирушки, дуэли делают сюжет занимательным и интересным.
Евгений Андреевич Салиас
Аракчеевский подкидыш
I
Были последние числа октября. По большой дороге, невдалеке от реки Волхова, двигался тихо дорожный экипаж. Зима еще не наступила, санного пути еще не было, но вся окрестность, освещенная полумесяцем, белелась сплошь покрытая тонким слоем снега, и только дорога черной полосой расчеркнула по полям пустынную белую равнину. Карета, запряженная четверкой «вольных» лошадей, могла бы двигаться гораздо скорей, так как дорога была отличная, но ямщик постоянно сдерживал и оглядывался. Ему было строго приказано не уезжать далеко от ехавших сзади двух бричек.
В карете сидел Шумский и рядом с ним Авдотья Лукьяновна. Они ехали из Петербурга в Грузино и теперь были от него верстах в трех. Шумский сильно похудел, побледнел, но, кроме того, в лице его совершилась какая-то странная перемена, которая бросалась в глаза. Взгляд, всегда упорный и проницательный, вспыхивавший зачастую ярким огнем, теперь был совершенно иной. Взор как-то потух, уже не горел по-прежнему, но стал еще более жесткий. В нем не было прежней открытой смелости и беззаботной дерзости, а было лишь что-то сдержанно злое. На все лицо легла какая-то тень озлобления. Он даже держался иначе, сидел и двигался несколько сгорбившись, несколько поникнув головой.
По всей фигуре Шумского можно было догадаться, что над ним разразился такой удар, от которого большинство людей не оправляются, который можно пережить физически, но трудно пережить нравственно. Его мать изменилась тоже.
Ряд бессонных ночей, душевные муки и раскаяние в опрометчивом шаге, погубившем ее «божество» – все перечувствованное женщиной за это время от всех ее бесед с сыном, наконец, принятое им роковое решение, – все это подействовало на нее так сильно, что природа, хотя и крепкая, все-таки сдалась. Авдотья постарела сразу лет на десять. Еще недавно в голове ее лишь кое-где блестел седой волос, теперь же виски совершенно побелели, а на лбу легли две глубокие морщины.
Всю дорогу мать и сын ни о чем не говорили. Еще в Петербурге Авдотья Лукьяновна много раз принималась умолять Шумского не губить себя, не предпринимать никакого рокового шага, не терять своего положения, но он только печально улыбался и отворачивался. Женщина видела, что никакие силы в мире не заставят его изменить злобно принятого решения по отношению к мнимым родителям.
Теперь, уже приближаясь к Грузину, они молчали и за последнюю станцию в карете не было произнесено ни единого слова. Наконец, невдалеке показались кое-где огоньки, а путь преградила вдруг река, темневшая среди ровных, отлогих берегов, частью покрытых мелколесьем.
– Вот и приехали, – тихо проговорил Шумский как бы сам себе и слегка взволнованным голосом. – Может в последний раз.
Авдотья вздохнула и ничего не ответила, но через несколько минут украдкой достала платок и стала сморкаться.
– Ты опять плакать, – выговорил Шумский. – Удивительный народ, бабы, то есть женщины. Как это вы можете реветь без конца все из-за одного и того же предмета. Ну, поплакала, обмочила слезами какой предмет со всех сторон. Ну, и довольно. А как же без конца-то?..
Очевидно молодой человек хотел пошутить, но голос его был грустный и хриплый.
– Михаил Андреевич, голубчик, Мишенька, – заговорила Авдотья. – Еще время одуматься. Не губи себя! Повидайся и уезжай опять в Питер. Ведь не уйдет. Всегда можешь с ними перетолковать. А ну как потом сам раскаешься.
– Матушка, – угрюмо и сурово отозвался Шуйский, – ведь я от тебя эти самые слова несколько сот раз слышал, а может и тысячу. Что же ты все повторяешь одно и то же. Сто раз ты всякими святыми угодниками мне божилась даже не начинать снова этого разговора. И никуда твоя божба не привела. Лучше погляди, за нами ли брички.
Авдотья вытерла глаза и, опустив каретное стекло, высунулась в окно.
– Нет никого, – ответила она, снова садясь, – должно отстали.
– Так вели этому олуху обождать, – отозвался Шумский.
Авдотья снова высунулась и велела ямщику остановить лошадей.
Когда экипаж стал, мужик слез с козел, обошел свой четверик и, поправив кое-что в сбруе, снова лениво полез на место.
Шумский сидел недвижно и задумчиво смотрел в окно на полумесяц.
Авдотья искоса поглядывала на него, хотела заговорить, но боялась.
Через несколько мгновений две брички, запряженные тройками, приблизились к ожидавшей их карете. В передней сидели рядом две фигуры, в которых было что-то странное на вид. Всюду, где проехали они днем, народ невольно заглядывался на них, замечая что-то особенное.
При взгляде даже поверхностном на эти лица видно было, что эти путники находятся в исключительном нравственном состоянии.
Это были: Пашута и ее брат Копчик.
Шумский, давно собиравшийся послать в Грузино виновных, рассудил, наконец, привезти их сам, но теперь, приближаясь к вотчине графа, молодой человек еще не решил мысленно их судьбу и сам не знал, что он скажет о них Аракчееву. Просто ли привез он обратно его двух крепостных людей или же он скажет все, иначе говоря, обречет их на всякие пытки.
Во второй бричке ехал Шваньский, а с ним рослый солдат, взятый в Петербурге про всякий случай. Один Шумский знал, зачем он приказал Шваньскому запастись таким адъютантом. Он опасался, что дорогой Пашута и Копчик сбегут, предпочитая сделаться беглыми, нежели возвращаться в кабалу графа и его любимицы.
Когда спутники подъехали, все три экипажа двинулись далее и, проехав около четверти версты, остановились на берегу, где был перевоз. Паром при их появлении отчалил к ним с противоположной стороны, где высились и белели здания и собор пресловутой Аракчеевской «мызы».
II
Шумский не сразу решился ехать в Грузино. За последнее время в его доме в Петербурге было мертво тихо. Около недели в его квартире жизнь, казалось, ничем не проявлялась и как бы замерла. Несмотря на то, что в квартире было до десяти душ обитателей, тишина никем и ничем не нарушалась по целым дням.
Ввечеру все окна на улицу были темны, и только в угловой комнате-спальне виднелся свет. Шумский никуда не выезжал и никого не принимал. Он сказывался больным, но был в состоянии, конечно, во сто крат худшем, чем самая трудная болезнь. Его рассудок долго никак не мог свыкнуться с тем, что громовым ударом разразилось над ним.
Мысль, что его кормилица и нянька, хотя страстно любящая его со дня рождения, но глупая и нелепая баба, к тому же крепостная холопка, вдруг оказалась его родной матерью, эта мысль страшным гнетом давила разум и сердце, но не укладывалась ни в мысли, ни в чувства. Сознание возмущалось фактом.
Шумский надломленный, разбитый, не только нравственно пораженный, но совершенно уничтоженный, в первые дни не приходил в озлобление, у него не было вспышек ненависти и злобы, была одна беспомощность. Он был как бы смертельно ранен и к тому же убежден, что не найдет в себе средств бороться, что не сможет силой воли справиться с этой смертельной раной и выздороветь.
По сто раз в день повторял он мысленно или шепотом:
– Холоп крепостной! Хам!.. Да. Вот такое же хамово отродье, как Копчик и другие. Что толку, что артиллерийский офицер и флигель-адъютант… Дворянин, но из холопов!
Иногда закрыв лицо руками, он, как ребенок, тоскливо капризным голосом приговаривал:
– Да не хочу я этого, не хочу…
После того рокового мгновенья, когда Авдотья, почти бросившись ему в ноги, объявила ему, что она ему мать, Шумский двое суток не видал ее, ибо не мог заставить себя повидаться.
Сотни всяких самых нелепых намерений, мыслей И затей проходили через его разгоряченную голову. Он собирался и застрелиться, и топиться, и ничего, ровно ничего не сделать. Последнее казалось ему, однако, самым мудреным. Как взбешенный человек и зверь, равно не могут удержаться спокойно на месте, так и Шумский теперь, пораженный в сердце, оскорбленный и потрясенный, не мог примириться с мыслью, которую подсказывало ему себялюбие.
Все бросить!
Нет. Надо было действовать и злостно, жестоко. Душа требовала мести. Кому? Всем! И виновникам его несчастия и позора и тем, кто неповинен в его горе, но виновен в том, что сам счастлив и никогда не был и не будет в таком унизительном положении.
И Шумский решился ехать в Грузино мстить.
На третий день после признания Авдотьи он, наконец, вызвал ее к себе, встретил ее у порога спальни и обнял… Но обнял молча, быстро, неловко…
Женщина горько зарыдала. Он потянул ее за руку и, тяжело переводя дыханье, усадил на диван и сел против нее, смущенно глядя ей в лицо, будто стыдясь сам своего взгляда.
– Расскажи мне все теперь, – шепнул он, наконец. – Всю эту адскую напасть, всю эту дьявольщину.
Авдотья поняла значение слов этих по-своему. Она стала рассказывать, как она доверила свою тайну Пашуте, думая этим заставить девушку, спасенную ею от смерти, действовать из благодарности в пользу ее родного сына и беспрекословно ему повиноваться.
Шумский прервал мать тотчас и объяснил, что он хочет иное знать, как попал в сыновья графу Аракчееву.
Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир
«Аракчеевский сынок», «Аракчеевский подкидыш» – романы Е.А.Салиаса (1840–1908 гг.), популярного писателя, которого современники называли «русским Дюма», впервые опубликованы в журнале «Исторический вестник» за 1888–1889 гг.
В центре повествования молодой красавец-офицер, любимец общества, которому все сходит с рук благодаря его влиятельному отцу. Интрига, любовь, веселые пирушки, дуэли делают сюжет занимательным и интересным.
Евгений Андреевич Салиас
Аракчеевский подкидыш
I
Были последние числа октября. По большой дороге, невдалеке от реки Волхова, двигался тихо дорожный экипаж. Зима еще не наступила, санного пути еще не было, но вся окрестность, освещенная полумесяцем, белелась сплошь покрытая тонким слоем снега, и только дорога черной полосой расчеркнула по полям пустынную белую равнину. Карета, запряженная четверкой «вольных» лошадей, могла бы двигаться гораздо скорей, так как дорога была отличная, но ямщик постоянно сдерживал и оглядывался. Ему было строго приказано не уезжать далеко от ехавших сзади двух бричек.
В карете сидел Шумский и рядом с ним Авдотья Лукьяновна. Они ехали из Петербурга в Грузино и теперь были от него верстах в трех. Шумский сильно похудел, побледнел, но, кроме того, в лице его совершилась какая-то странная перемена, которая бросалась в глаза. Взгляд, всегда упорный и проницательный, вспыхивавший зачастую ярким огнем, теперь был совершенно иной. Взор как-то потух, уже не горел по-прежнему, но стал еще более жесткий. В нем не было прежней открытой смелости и беззаботной дерзости, а было лишь что-то сдержанно злое. На все лицо легла какая-то тень озлобления. Он даже держался иначе, сидел и двигался несколько сгорбившись, несколько поникнув головой.
По всей фигуре Шумского можно было догадаться, что над ним разразился такой удар, от которого большинство людей не оправляются, который можно пережить физически, но трудно пережить нравственно. Его мать изменилась тоже.
Ряд бессонных ночей, душевные муки и раскаяние в опрометчивом шаге, погубившем ее «божество» – все перечувствованное женщиной за это время от всех ее бесед с сыном, наконец, принятое им роковое решение, – все это подействовало на нее так сильно, что природа, хотя и крепкая, все-таки сдалась. Авдотья постарела сразу лет на десять. Еще недавно в голове ее лишь кое-где блестел седой волос, теперь же виски совершенно побелели, а на лбу легли две глубокие морщины.
Всю дорогу мать и сын ни о чем не говорили. Еще в Петербурге Авдотья Лукьяновна много раз принималась умолять Шумского не губить себя, не предпринимать никакого рокового шага, не терять своего положения, но он только печально улыбался и отворачивался. Женщина видела, что никакие силы в мире не заставят его изменить злобно принятого решения по отношению к мнимым родителям.
Теперь, уже приближаясь к Грузину, они молчали и за последнюю станцию в карете не было произнесено ни единого слова. Наконец, невдалеке показались кое-где огоньки, а путь преградила вдруг река, темневшая среди ровных, отлогих берегов, частью покрытых мелколесьем.
– Вот и приехали, – тихо проговорил Шумский как бы сам себе и слегка взволнованным голосом. – Может в последний раз.
Авдотья вздохнула и ничего не ответила, но через несколько минут украдкой достала платок и стала сморкаться.
– Ты опять плакать, – выговорил Шумский. – Удивительный народ, бабы, то есть женщины. Как это вы можете реветь без конца все из-за одного и того же предмета. Ну, поплакала, обмочила слезами какой предмет со всех сторон. Ну, и довольно. А как же без конца-то?..
Очевидно молодой человек хотел пошутить, но голос его был грустный и хриплый.
– Михаил Андреевич, голубчик, Мишенька, – заговорила Авдотья. – Еще время одуматься. Не губи себя! Повидайся и уезжай опять в Питер. Ведь не уйдет. Всегда можешь с ними перетолковать. А ну как потом сам раскаешься.
– Матушка, – угрюмо и сурово отозвался Шуйский, – ведь я от тебя эти самые слова несколько сот раз слышал, а может и тысячу. Что же ты все повторяешь одно и то же. Сто раз ты всякими святыми угодниками мне божилась даже не начинать снова этого разговора. И никуда твоя божба не привела. Лучше погляди, за нами ли брички.
Авдотья вытерла глаза и, опустив каретное стекло, высунулась в окно.
– Нет никого, – ответила она, снова садясь, – должно отстали.
– Так вели этому олуху обождать, – отозвался Шумский.
Авдотья снова высунулась и велела ямщику остановить лошадей.
Когда экипаж стал, мужик слез с козел, обошел свой четверик и, поправив кое-что в сбруе, снова лениво полез на место.
Шумский сидел недвижно и задумчиво смотрел в окно на полумесяц.
Авдотья искоса поглядывала на него, хотела заговорить, но боялась.
Через несколько мгновений две брички, запряженные тройками, приблизились к ожидавшей их карете. В передней сидели рядом две фигуры, в которых было что-то странное на вид. Всюду, где проехали они днем, народ невольно заглядывался на них, замечая что-то особенное.
При взгляде даже поверхностном на эти лица видно было, что эти путники находятся в исключительном нравственном состоянии.
Это были: Пашута и ее брат Копчик.
Шумский, давно собиравшийся послать в Грузино виновных, рассудил, наконец, привезти их сам, но теперь, приближаясь к вотчине графа, молодой человек еще не решил мысленно их судьбу и сам не знал, что он скажет о них Аракчееву. Просто ли привез он обратно его двух крепостных людей или же он скажет все, иначе говоря, обречет их на всякие пытки.
Во второй бричке ехал Шваньский, а с ним рослый солдат, взятый в Петербурге про всякий случай. Один Шумский знал, зачем он приказал Шваньскому запастись таким адъютантом. Он опасался, что дорогой Пашута и Копчик сбегут, предпочитая сделаться беглыми, нежели возвращаться в кабалу графа и его любимицы.
Когда спутники подъехали, все три экипажа двинулись далее и, проехав около четверти версты, остановились на берегу, где был перевоз. Паром при их появлении отчалил к ним с противоположной стороны, где высились и белели здания и собор пресловутой Аракчеевской «мызы».
II
Шумский не сразу решился ехать в Грузино. За последнее время в его доме в Петербурге было мертво тихо. Около недели в его квартире жизнь, казалось, ничем не проявлялась и как бы замерла. Несмотря на то, что в квартире было до десяти душ обитателей, тишина никем и ничем не нарушалась по целым дням.
Ввечеру все окна на улицу были темны, и только в угловой комнате-спальне виднелся свет. Шумский никуда не выезжал и никого не принимал. Он сказывался больным, но был в состоянии, конечно, во сто крат худшем, чем самая трудная болезнь. Его рассудок долго никак не мог свыкнуться с тем, что громовым ударом разразилось над ним.
Мысль, что его кормилица и нянька, хотя страстно любящая его со дня рождения, но глупая и нелепая баба, к тому же крепостная холопка, вдруг оказалась его родной матерью, эта мысль страшным гнетом давила разум и сердце, но не укладывалась ни в мысли, ни в чувства. Сознание возмущалось фактом.
Шумский надломленный, разбитый, не только нравственно пораженный, но совершенно уничтоженный, в первые дни не приходил в озлобление, у него не было вспышек ненависти и злобы, была одна беспомощность. Он был как бы смертельно ранен и к тому же убежден, что не найдет в себе средств бороться, что не сможет силой воли справиться с этой смертельной раной и выздороветь.
По сто раз в день повторял он мысленно или шепотом:
– Холоп крепостной! Хам!.. Да. Вот такое же хамово отродье, как Копчик и другие. Что толку, что артиллерийский офицер и флигель-адъютант… Дворянин, но из холопов!
Иногда закрыв лицо руками, он, как ребенок, тоскливо капризным голосом приговаривал:
– Да не хочу я этого, не хочу…
После того рокового мгновенья, когда Авдотья, почти бросившись ему в ноги, объявила ему, что она ему мать, Шумский двое суток не видал ее, ибо не мог заставить себя повидаться.
Сотни всяких самых нелепых намерений, мыслей И затей проходили через его разгоряченную голову. Он собирался и застрелиться, и топиться, и ничего, ровно ничего не сделать. Последнее казалось ему, однако, самым мудреным. Как взбешенный человек и зверь, равно не могут удержаться спокойно на месте, так и Шумский теперь, пораженный в сердце, оскорбленный и потрясенный, не мог примириться с мыслью, которую подсказывало ему себялюбие.
Все бросить!
Нет. Надо было действовать и злостно, жестоко. Душа требовала мести. Кому? Всем! И виновникам его несчастия и позора и тем, кто неповинен в его горе, но виновен в том, что сам счастлив и никогда не был и не будет в таком унизительном положении.
И Шумский решился ехать в Грузино мстить.
На третий день после признания Авдотьи он, наконец, вызвал ее к себе, встретил ее у порога спальни и обнял… Но обнял молча, быстро, неловко…
Женщина горько зарыдала. Он потянул ее за руку и, тяжело переводя дыханье, усадил на диван и сел против нее, смущенно глядя ей в лицо, будто стыдясь сам своего взгляда.
– Расскажи мне все теперь, – шепнул он, наконец. – Всю эту адскую напасть, всю эту дьявольщину.
Авдотья поняла значение слов этих по-своему. Она стала рассказывать, как она доверила свою тайну Пашуте, думая этим заставить девушку, спасенную ею от смерти, действовать из благодарности в пользу ее родного сына и беспрекословно ему повиноваться.
Шумский прервал мать тотчас и объяснил, что он хочет иное знать, как попал в сыновья графу Аракчееву.