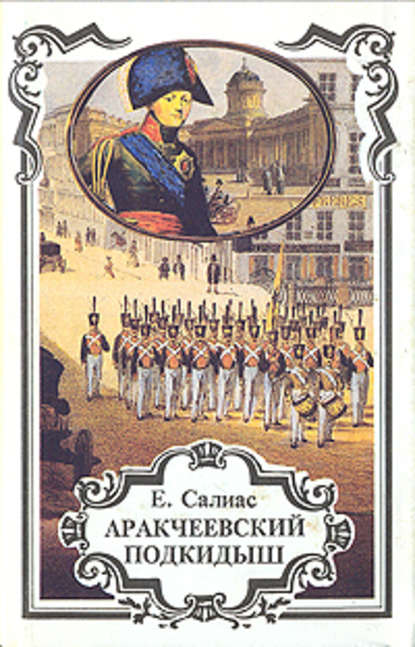По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский подкидыш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Настасья Федоровна?.. А я, стало быть, буду тебе теперь вашим сиятельством. Что ты очумел? Ведь тебе кутеж видно голову просверлил. В уме ты?
– Слава Богу, в полном рассудке, – отозвался Шумский.
Наступило молчание, оба стояли друг против друга. Наконец, Шумский выговорил холодно:
– Позвольте, я завтра все разъясню вам.
– Разъяснишь? Что?
– Все, – отозвался Шумский.
– Да что все-то?
– Завтра узнаете.
– Да что ты загадки загадываешь! Что ты балуешься?! Стоишь истуканом и брешешь.
Шумский тяжело вздохнул и вымолвил:
– Завтра, утром ли, ввечеру ли, когда прикажете, я все объясню вам, а теперь я слишком устал. Да и самое дело слишком важно. Надо собраться с мыслями.
Слова эти были сказаны с таким оттенком, который удивил Аракчеева. Он поглядел еще раз пристально на молодого человека, насмешливо пожал плечами и, круто повернувшись, вышел так же, как и из горницы Минкиной.
Через час времени всеобщее оживление, вызванное в доме приездом молодого барина, понемногу стихло, отчасти благодаря позднему часу и привычке грузинцев ложиться рано спать, отчасти и потому, что лица всех приезжих навели уныние на всех дворовых.
Грузинская дворня разошлась спать в тревожном состоянии: «Быть чему-то! Стряслось что-то!» А всякая беда в Грузине захватывала не одного, не двух человек, но непременно всех, и правых, и виноватых.
V
Часов в двенадцать хоромы, двор и окружающие надворные строения, все безмолвно стояло под покровом темной ночи. Полная тьма и полная тишь прерывалась только каждые полчаса завыванием чугунной доски среди двора от мерных ударов по ней сторожа. Грузинскую сторожевую доску все в околодке знали и все равно дивились ей. Странный в ней был звук. Не просто гудела она по ночам, как всякая другая, а жалобно ныла и завывала, будто плакался загробный голос какой. Сказывали и во дворе, и на селе, что когда сторож бьет в доску, то не она звучит, а подают голоса среди ночи те многие и многие несчастные, загубленные суровым графом и его любовницей-людоедкой Настасьей Федоровной.
Около полуночи какая-то фигура с черной бородкой, в длиннополом кафтане, картузе и с синеватыми очками на носу, шла из хором с фонарем в руках по небольшой крутой лестнице, по которой мало и редко кто в доме ходил. Сойдя вниз на крылечко через маленькую дверку, фигура потушила фонарь, поставила его на пол и, озираясь среди тьмы, сошла с крылечка на двор. Пройдя от дома до здания, именовавшегося «деловым двором», человек этот присмотрелся издали и прислушался.
Сидевшие у ворот два ночных сторожа тихо беседовали. Незнакомец осторожно подкрался за угол здания и стал прислушиваться. Один из двух сторожей угрюмо, со вздохами поучал другого.
– Что же? Все так-то на свете. Народ – темнота и не понимает. Вот лошадь, нешто не работает, хотя бы даже корова и ту, стало быть, доят. Вот собакам жить розно: иная собака дворная сторожит, другая на охоту ходит, птицу убитую подает, а другая у барыньки какой на коленочках почивает. Всю жизнь она проживет, якобы сама барышня какая. А наше дело, чем плохо. Что ночью не спишь? Зато днем выспишься. Зато ночным делом мы и от графа якобы подальше. Знай, в свое время отхватывай в доску, он доволен и тебе нехудо. А кто по близости к нему обретается, гляди, все под розгами воет. А я вот ни однова не порот!
Собеседник ответил несколькими словами, которых расслышать было нельзя.
– Нет, братец мой, – отозвался первый, – шалишь. Это ты вновь так рассуждаешь, а я тебя обучу. Этого ты и думать не моги, он завсегда знает. Этак было ужас, Петрушка Косой пропущал разы, стучал в доску как попадется, то через час, а то отдрыхнет да зазвонит через два часа в третий. Так его через неделю до бесчувствия отодрали и махнули. И куда он девался, никому неведомо. Кто говорит – помер от розог, а кто говорит – в Сибирь пошел. Нет, ты этого не моги думать. Спит он или не спит, кто его знает, а он завсегда звону счет ведет. Избави тебя Бог не стучать кажинные полчаса.
Собеседник опять вставил несколько слов и получил ответ.
– Это верно. У нас пролазов-предателей тьма. Вестимо, ему докладает кто и про сторожей, а сам он спит. А нам-то что же, что над нами ухо и глаз есть. А ты парень стучи, как полагается, и не бойся. Хоть и лих он, а все же зря, тоись, совсем зря не обидит. Бывает, что и зря накажет обмахнувшись, но тогда оное в зачет идет. Меня три года тому назад страсть как выпороли, но я этого дранья не считаю, потому обшибкой вышло и за то мне в зачет пойдет. Если теперь провинюсь, то на смазку выйдет. Загодя, стало быть, заплатил за свою впредь будущую вину. Но все ж таки я по этому покудова и сказываю, что я якобы порот еще не был.
Фигура, прислушивавшаяся за забором, вернулась назад, через двор двинулась в сад и, приблизясь к маленькой калитке, достала ключ из кармана, отворила ее и вышла наружу, на село. Незнакомец поправил очки, нахлобучил картуз еще больше на лоб и двинулся быстро, постукивая тоненькой тростью, которая изредка, попав на камень, издавала звенящий звук, так как была железная и весом тяжелая.
Пройдя улицу, где была полная пустота, незнакомец повернул в проулок и пошел задами домов. Всюду, где он проходил, он пристально вглядывался в окружающее, изредка останавливался, прислушивался, иногда пробовал заперты ли ворота или двери домов и надворных строений и шел далее. Там, где в окошках светились огоньки лампад, он приостанавливался и заглядывал в окна.
Пройдя довольно далеко задами и уже как бы собираясь повернуть в другой проулок, чтобы выйти на главную улицу, он вдруг увидел приотворенную калитку. Он подошел, ощупал и нашел два кольца и висячий замок с ключом, висевшим лишь на одном кольце. Он осторожно отворил калитку и вошел во дворик.
Пройдя немного вправо, потом влево, и оглядевшись, он увидел прислоненные к сарайчику лопату и метлу. Он усиленно покачал головой, как если бы увидел нечто чрезвычайно исключительное. Он взял метлу и лопату, осторожно вышел с ними на улицу, причем снял замок с калитки и положил его в карман. Он двинулся далее, но уже прямо в поле. Пройдя сажень сто, он стал искать глазами, прошел вправо, потом вернулся и опять двинулся.
Наконец, среди темноты завидя что-то черное, он прямо направился к этому месту. Здесь была куча мусору близ выгребной ямы.
Бросивши лопату и метлу на земь, он быстро своей железной палкой зашвырял и то и другое сором, затем присмотрелся и, видя, что хорошо зарыл оба предмета всякими отбросами, шибче и как-то веселее пошел обратно. Войдя снова в слободу и, пройдя несколько шагов по главной улице, он увидел свет в окне. Внутри громко говорили, шумели, спорили и бранились. Он стал прислушиваться, но, кроме отдельных слов, не мог разобрать ничего. Часто повторялись слова: «граф» и «пойду» и имя «Антошка».
Постояв немного, незнакомец осторожно двинулся далее по направлению к барскому дому.
В довольно большом здании среди слободы четыре окна были освещены и над входом была вывеска. Тут помещалась грузинская аптека.
Незнакомец вошел на крыльцо, осторожно приотворил дверь в аптеку и глянул внутрь. За прилавком стоял молодой, лет двадцати, аптекарский помощник, а на лавке дремал старик-крестьянин и сидела, сгорбившись, женщина, повязанная платком.
Тщательно осмотревшись, человек этот вошел в аптеку и вежливо, почти подобострастно, выговорил:
– Господин аптекарь, позвольте мне малость горчицы для горчичника.
Аптекарский помощник, приготовлявший какое-то лекарство, отозвался тихим, ленивым, отчасти сонным голосом:
– Присядьте.
Незнакомец сел на скамейке поодаль от сидевших на ней и спиной к свету. Молодой малый продолжал свое дело тихо, неспеша. Очевидно, что сон сильно клонил его, так как он зевал не переставая, причем отчаянно завывал, изредка приговаривая:
– Ах, пропади ты! О-ох, идолы!
По движениям молодого малого, по опущенным глазам, поникнутой на бок голове, по всему лицу, было видно, что он не только находится в полусонном состоянии, но отчасти изнурен бессонницей. Прошло минуты две полной тишины, которую только нарушал аптекарь, то зевая, то постукивая чашечками или гремя пузырьками. Но он не глядел никуда и не спускал глаз с тех предметов, которые были у него в руках.
Чернобородый в очках внимательно, пытливо и упорно разглядывал малого и, быть может, этот долгий и пристальный взгляд магнетически заставил, наконец, аптекарского помощника поднять на незнакомца глаза.
– Снимите картуз! – промычал он апатично и снова опуская тотчас же глаза на работу.
– Вы это мне-с? – отозвался незнакомец.
– А то кому же? Я что ли в картузе?
– А почему же мне снимать его?
– Первое, потому, что здесь, вон видите, святая икона в углу, а второе, потому, что здесь – графская аптека. Сюда нельзя влезать, как в кабак.
Незнакомец не двигался и очевидно затруднялся исполнить данный совет. Прошла минута, молодой малый продолжал стряпать, затем снова поднял глаза и приостановился работать.
– Вы что же, господин, на русском наречии не понимаете? Вам сказано: снимите картуз. А не желаете, я вас попрошу вон и никакой горчицы вам не дам.
Незнакомец нехотя снял картуз и покосился на всех.
– На вот, – прибавил аптекарь, подавая крестьянке пузырек с лекарством.
– Как же с им быть-то, родненький? – спросила баба. – В нутро его. Пить? Аль мазаться?