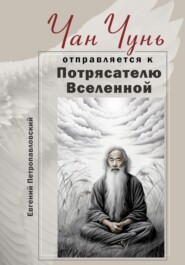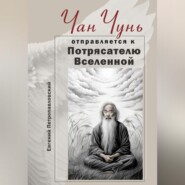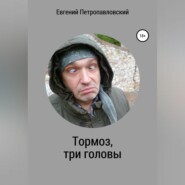По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Любовь-неволя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, – она посмотрела тебе в глаза. – Он меня так не звал.
– Мариам… Муи, раз уж об этом зашла речь… – ты решился наконец задать вопрос, который давно не давал тебе покоя. – Скажи честно: ты любила Абдурашида?
– Нет, – твёрдо ответила она. – Не любила. А почему ты спрашиваешь?
– Да просто интересно… Не понимаю, зачем тогда вышла за него?
На этот раз молчание было долгим. Потом она ответила, медленно подбирая слова – и это, похоже, давалось ей нелегко:
– У моего замужества не такая простая история. Пусть Аллах никогда не даст мне детей, если совру: не любила я Абдурашида. Ни одного дня, ни одной минуты… А об остальном… я понимаю, что, наверное, должна тебе рассказать… Но, пожалуйста, не требуй этого от меня сейчас. Не сразу, потом когда-нибудь, хорошо?
– Да что ты, Мариам… Муи. Я и не собирался требовать, чтобы ты рассказывала, если тебе неприятно. Я просто так спросил.
– Ладно, ешь, – мягко сказала она. – А то опять лапшу придётся разогревать.
Она придвинула к себе тарелку. Зачерпнула ложкой и, вытянув губы, подула в неё. Потом подняла взгляд – вероятно, вид у тебя был настолько обескураженный, что она прыснула в ладошку:
– Ешь-ешь, чего застыл как столбик. Ты сейчас много сил потратил, надо их восполнять.
За лапшой последовала неизменная в местном рационе черемша – на этот раз Мариам запекла её с яйцами. Потом – чай с кизиловым вареньем. Ничего покупного, всё своё, доморощенное или собранное в горах, или выменянное у соседей… Вообще сейчас в ауле жили скудно. Можно сказать, едва сводили концы с концами. Да и откуда взяться особым достаткам, если в последние годы ни промышленного производства, ни сельского хозяйства, ни соцобеспечения – практически никаких институтов, присущих осмысленному человеческому обществу – в Ичкерии не существовало. Пенсию старикам не платили. Работы для молодёжи не имелось абсолютно никакой. Разруха и нищета. Процветали только волчьи стаи ваххабитов, финансировавшиеся из-за рубежа (впрочем, ходили слухи, что отчасти и из Москвы). Потому и сложилось так, что единственными работодателями здесь являлись лихие людишки типа Радуева, Гелаева, Басаева и Хаттаба, а работа заключалась главным образом в разбойных нападениях на сопредельные с Чечнёй российские территории. Правда, платили так называемые полевые командиры довольно неплохо, оттого всё больше аульчан, измаявшись от безденежья и голодухи, уходили в горы и надевали на себя камуфляж… Но ничто не даётся даром, за хорошие деньги приходится и цену платить немалую; поэтому каждый год в ауле число вдов возрастало.
…Никогда прежде ты не замечал, чтобы Мариам была особенной болтушкой. Но во время обеда она щебетала без умолку. О соседях, о каких-то пустяковых происшествиях в ауле. Планировала разные мелочи по хозяйству; расспрашивала тебя о твоей прежней доармейской жизни, о том, сколько у тебя было девушек до неё и любил ли ты хоть одну из них по-настоящему (нет, разумеется, не любил – а что ещё отвечает мужчина в подобных случаях). Просила рассказать о родителях; интересовалась, не были бы они против, если б узнали – ну, скажем, что ты встречаешься с чеченкой (кстати, большой вопрос: отцу это, скорее всего, очень бы не понравилось)… О Мариам ты узнал, что мать у неё – наполовину аварка, а отец – чеченец. Жили в Грозном, но обоих уже нет в живых. Отец попал под машину ещё до войны. Водитель, виновный в наезде, скрылся с места происшествия, его так и не нашли. А мать погибла, можно сказать, из-за этой проклятой разрухи: у неё случился перитонит, но поскольку о «скорой помощи» сейчас можно только мечтать, то в больницу, ясное дело, её доставили поздно… Остался брат. Старший. Он давно живёт в Москве – прописка и всё такое… Словом, гражданин России, повезло ему.
После обеда Мариам отправила тебя в постель:
– Я скоро освобожусь и приду, – сказала она. – Только помою посуду, насыплю курам корм и дров нарублю, чтобы печь затопить: вечером будет холодно.
– Нет, так дело не пойдёт, – возразил ты. – Видано ли: мужик в доме, а женщина будет дрова рубить. Издеваешься, что ли? Сейчас я оденусь по-быстрому – и…
– Только попробуй, – решительно оборвала она твои поползновения. – Лучше ещё пару дней полежи в постели, чем мне потом целый месяц тебя выхаживать. Учти: я умею не только быть ласковой, но и скандалить!
И тут же обняла, прижалась к тебе всем телом – и, нежно поцеловав в губы, добавила:
– Нет, правда, иди ложись. Пожалуйста.
Разве можно было с ней, такой, спорить.
***
Ты забрался под одеяло. Лёжа на правом боку, засунул руку под подушку, а колени подтянул к животу. И от нечего делать стал смотреть в окно. Несмотря на яркое солнце, снаружи, похоже, было довольно холодно: ветер раскачивал верхушки деревьев и гонял по воздуху заполошные стаи жёлтых листьев.
Ты лежал и думал о Мариам. Перебирал в памяти слова, движения, чувства, испытанные тобою в ту, первую ночь, которая вас соединила. И понимал, что это никогда не забудется, ибо первые ощущения – своего рода эталон, золотой стандарт, с которым тебе предстоит сверять все последующие их повторения. Мариам выбивалась из привычной картины мира, а её поведение не сообразовывалось со всем предшествовавшим ходом событий. Возможно ли было представить – ещё месяц или два тому назад – что у тебя с ней вот так получится? О нет, тебе и в голову не могло прийти ничего подобного! Это казалось невероятным. Как всё же прекрасно, что иногда жизнь способна на столь внезапные счастливые повороты!
Ты обрёл женщину. А заодно с ней и тихую заводь, в которой можно укрыться от разных невзгод и неожиданностей, от неуёмной людской злобы и нескончаемых жизненных бурь, бушующих в этом мире. Ледяная глыба тоски, за долгие годы неволи выросшая возле твоего сердца, теперь стремительно таяла.
Что будет дальше с тобой и Мариам, какое грядущее притаилось за скользким бугром настоящего, за тёмными спинами ближайших дней? Вопрос, конечно, непростой. Да и требовался ли тебе ответ на него? Вряд ли. Что бы ни случилось – пусть всё идёт как идёт, и не важно, во что это выльется. Значит, так на роду написано.
В сущности, ты очень мало знал о своей хозяйке. Как она жила до тебя, о чём думала, о чём мечтала? Было ли что-нибудь такое, что ей хотелось бы скрыть от тебя? О, ты прекрасно понимал: на свете практически не существует людей, которым нечего скрывать о своём прошлом – большие или малые, но тайны есть у каждого… Интересно, какие заветные секреты хранила Муи в свой очаровательной головке?
Да ну их к чёрту, эти секреты! Они тебя совершенно не касались. Подумаешь, великое дело. Надо уметь жить настоящим.
Ты вспоминал тонкую фигурку Мариам. Её заострённые грудки с золотистой кожей и чуть вздёрнутыми вверх сосками. А главное – её лицо. Особенно сегодня, в те минуты, когда Муи была вся – порыв и страсть, когда она стонала и неистовствовала у тебя на коленях… Как там у них называются сказочные девы, услаждающие праведников в раю? Гурии.
Вот кто она такая. Твоя Мариам – нет, твоя Муи – это сказочная райская гурия, подаренная тебе небесами.
Вообще-то, наверное, не стоит расслабляться. Ведь недаром говорят, что нельзя судить о людях только по внешним, сиюминутным проявлениям. Ты способен видеть самую малую часть из того, что есть в человеке, всего лишь вершину айсберга, а основное скрыто под толщей непроглядных течений. Страшно представить, из какого непостижимого множества слагаемых состоит любая личность, и всё подёрнуто плотной завесой тайны; неудивительно, что человек даже сам порой не догадывается, сколько масок, сколько демонов, сколько жаждущих крови клыков и когтей прячется в нём…
Нет, ты ни в коем случае не должен забывать о той пропасти, которая разделяет тебя и Мариам – она ведь и теперь никуда не делась.
Невзирая ни на что.
Невзирая на то, что в последние дни эта пропасть стала значительно меньше, чем прежде. Настолько меньше, что тебе даже почудилось, будто она вовсе исчезла. Однако не стоит выдавать желаемое за действительное.
Ни во что не верить – это далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Напротив, неверие (полный цинизм, пусть даже так) представляет собой тяжкий труд с моральной точки зрения. Человек способен прийти к этому постепенно, мелкими шажками, точно путник, изнывающий под едва подъёмной поклажей, но никогда – сразу. Опыт отрицательного восприятия нарабатывается исподволь – если можно так выразиться, посредством длительных тренировок. О, у тебя было достаточно времени для тренинга подобного рода – пусть и подневольного, зато тщательного и непрестанного!
Да и как можно поверить в то, что возможна столь непостижимая, безумная, невероятная симметрия событий и чувств, что твоя несвобода в считанные дни претворилась в нечто совершенно иное, в непрямую и причудливо искажённую, но всё-таки свою противоположность? Это казалось настолько непохожим на правду, что ты внезапно поймал себя на вполне искреннем желании поскорее досмотреть до конца этот фантастический сон. Поскольку чем продолжительнее он окажется, тем мучительнее затем должно явиться новое вхождение в неотвратимую рабскую действительность, в то жалкое полуживотное существование, которое уготовала тебе судьба. Надолго ли? Неужто навсегда? И в какую цифру воплотится это «навсегда»? В один год? В два? В пять? Или в десять? Жизнь раба в здешних краях коротка.
Так размышлял ты, ощущая себя словно подвешенным в безвоздушном пространстве над бурным, никем не контролируемым и оттого, скорее всего, гибельным потоком событий (нет, над громокипящим смешением, над водоворотом кровавых времён и дичающих народов – ты был как бы вовне всего этого, тебя почти не существовало!)… Ты не мог двинуться ни вперёд, ни назад; и – что же тогда оставалось? Смириться с неизбежностью и вверить себя естественным законам природы, согласно которым всё в мире стремится от тепла к холоду, от единства к рассеянию, от порядка к хаосу? Смириться и постараться как можно дольше не просыпаться, замереть посреди мгновения, соединившего тебя с Мариам, поскольку именно оно является той зыбкой гранью, на которой прошлое преломляется, превращаясь в будущее – неуловимо быстро начинает и никак не может закончить превращение, ибо только в нём заключено всё истинное, зримое, осязаемое. А остального попросту нет в твоём настоящем времени; остальное, может быть, потерялось где-то в лабиринтах прошлого или проявит себя в разновероятных картинках будущего; однако его не существует ни в тебе, теперешне-всегдашнем, ни в ком-либо ином, ни в том мгновении, которое вдохнуло жизнь в твои чувства и помыслы на стыке времён и событий; ничего не существует за пределами этого пограничного мгновения, поскольку оно и есть сама жизнь…
Ты всё слабее контролировал ход своих мыслей, рассыпавшихся в пространстве непонятного и необязательного, образовывавших причудливые взаимосвязи и трансформировавшихся в один неразборчиво колышущийся тревожный ком – возможно, просто оттого, что тебе давно не было так хорошо, как сегодня, и ты боялся, и не хотел всё это потерять… Но не существует на свете ничего вечного и неизменного – и они выпали из твоей реальности: этот уют, это тепло, это воспоминание о нежности и ласке. Пусть на время, но ты потерял их. Просто потому что уснул.
А проснулся ты…
Собственно, проснулся ты от толчка, чуть не слетев со своего места.
Это водитель ЗИЛа неожиданно резко нажал на тормоз – то ли зазевался, то ли прикололся, мудило.
Приехали.
В караулке ты сдал свой АКС и направился в столовую. Отдыхающая смена давно поужинала, посему тем, кто сменялся с постов, следовало поторопиться, чтобы не остаться голодными. Но тебя остановил «дед» Осипов: начкар заставил того убирать в коридоре, и теперь он вылавливал «молодых», чтобы припахать. Твой однопризывник Мусаев уже мёл полы. В проходе между одёжными шкафами, на днях сколоченными бойцами из поточенных жучком горбылей, стояло ведро с водой, а рядом лежала тряпка из рваной мешковины.
– Я ещё не ужинал, – сказал ты.
Осипов, за свою оттопыренную нижнюю губу получивший кличку Сандаль, насмешливо ощерился:
– Значит, ты пойдёшь себе брюхо набивать, а «дедушка» останется здесь? Дедушка будет работать? Смеёшься, да?
Ты пожал плечами.
Урод губастый. И откуда только берутся такие.
– Давай-давай, – хлопнул тебя по плечу Осипов. – Дело-то плёвое. Быстро управишься и пойдёшь ужинать.
Спорить было бесполезно. Не станет Сандаль работать, даже если ему из-за этого придётся оставить голодной всю роту.
Вода в ведре была рыжей от ржавчины. Макнув в неё, а затем слегка выжав тряпку, ты принялся мыть пол…
Порой мимо проходил кто-нибудь из «дедов», невозмутимо оставляя после себя следы грязных сапог. Приходилось возвращаться и снова вытирать за ними.