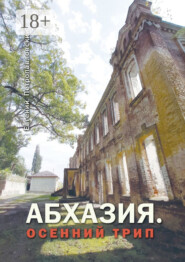По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Порт-Артур, Маньчжурия. Смертные поля…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да уж, пять человек обречь или весь экипаж – простая арифметика. Хотя им, бедолагам, от этого не легче.
– На «Цесаревиче» откачивали воду из затопленного отсека – тоже двоих задраенных вынули в разбухшем виде.
– Сколько ещё жертв принесёт война, можно только гадать.
– Если эскадра продолжит отсиживаться под защитой береговых батарей, то макаки чего доброго и десант высадить осмелятся.
– Худо, если так. Большинство фортов недостаточно вооружено, а иные совсем без орудий стоят, линия укреплений не сомкнута. Хотя и заторопились с работами против прежнего, а всё равно не достроить меньше, чем за год. Как обороняться при сплошных прорехах?
– Может, и в полгода достроимся. Инженерные офицеры из кожи вон лезут. Китайским чернорабочим увеличили подённую оплату до семидесяти копеек. Правда, говорят, рядчики-старшинники много больше получают, да и приворовать на строительстве им всегда способно. Ну да что ж, дело обычное, а от китайцев отбоя нету: работают, как муравьи, стараются.
– Сколь ни старайся, всех дыр в такой короткий срок не залатать.
– И народу в Артуре маловато. Подкреплений не помешало бы, а у нас людей только забирают – в Корею шлют и куда там ещё…
– Да, пехоты здесь надо вдвое больше, чем сейчас имеется. Форты растянуты вёрст на двадцать – если между ними равномерно распределиться, да ещё рассадить солдат по окопам в предполье, это действительно жидковато получается. Опять же, резервы какие-никакие надо держать про всякий случай, а откуда им взяться?
– Приморские батареи стоят уединённо, и никакой пехотной охраны им не выделено. Готовая пища для диверсантов. А ночи нынче стоят тёмные – милое дело для ползунов.
– Касаемо диверсантов – это верно, не помешало бы прибавить бдительности, не то как бы косорылые малыми силами не натворили непоправимых бед… Хотя с десантом, я думаю, они повременят. Им сейчас Корея интереснее: по всему, там начнётся главное дело.
– Одно другому не помеха. Не зря ведь командный состав отправляет свои семьи в Харбин да в Россию. Чай не дураки: понимают, что раньше или позже здесь станет припекать.
– Станет, ох станет!
– А куда денешься: чему быть, того не миновать…
В Порт-Артуре происходила быстрая убыль населения, и это сказывалось на многих сферах городской жизни. Так в дневнике Павла Ларенко[7 - Павел Ларенко – псевдоним Павла Петровича Лассмана, секретаря редакции порт-артурской газеты «Новый край». Свой дневник он опубликовал в 1906 году под упомянутым псевдонимом, назвав книгу «Страдные дни Порт-Артура».] уже на исходе третьего дня войны появилась следующая запись:
«Город всё больше пустеет. Весь контингент шумной весёлой публики, проживавшей здесь ради своего удовольствия или же для доставления удовольствия другим, исчез. Как мне говорили люди, заслуживавшие полного доверия, в эти дни платили иногда извозчику до вокзала до 25 рублей. Лишь бы скорее уехать! Вагоны были всегда набиты народом. Никому не хотелось остаться до следующего поезда. Многие довольствовались тем, что могли присесть только на свой багаж, авось по пути освободится местечко.
Узнаём очень неприятную новость – наш ассенизационный обоз перестал действовать. Подрядчик-арендатор его, японец Казаками, скрылся, его рабочие китайцы разбежались. Теперь городу грозило бедствие от собственных нечистот. Устройство клозетов было таково, что требовалась ежедневная очистка. Все они были переполнены. Это грозило заразой воздуха в то время, когда и без того ненормальная жизнь военного времени сулила сама по себе возможность разных эпидемических заболеваний.
Послышались громкие запросы – почему столь серьёзная отрасль городского хозяйства оказалась в городе и в крепости Порт-Артур в руках японца? Аргумент, что японец стоил городу меньше средств, не удовлетворял вопрошающих, так как из-за дешевизны нельзя было упускать из виду другие соображения. Разве не должны были об этом подумать? Но вопрос этот так и остался открытым до сей поры.
Теперь каждый сознавал, что услуги юрких японцев имели везде весьма неприятную для нас заднюю цель. Если они что делали, то не только ради наживы, но желали при этом выведать обо всём, узнать с точностью всё, что мы тут делаем – изучить все наши привычки, способности и слабости. Кругом заговорили открыто, что японцы-парикмахеры и некоторые из купцов были офицеры японского Генерального штаба, и что не было уголка, который был бы им недоступен. Поговаривали также, что немало, должно быть, осталось в крепости японцев, переодетых китайцами или припрятавшихся в укромных уголках для наблюдения за ходом событий, за нашими действиями.
Японский переводчик, служивший при полицейском управлении, православный и чуть ли не женатый на русской, скрылся также, хотя всё время уверял, что останется здесь, на службе. И он, вероятно, успел пробраться на иностранное судно, стоявшее ещё в гавани и ожидавшее прибытия остальных выезжающих из Маньчжурии японских подданных.
Довольно значительное число китайского населения покинуло город; оказалось, что японцы тайком пригрозили смертью всем, кто останется и будет помогать русским. В этом не было бы особенной беды, если бы одновременно с их отъездом не закрылось бы много китайских лавок и сразу не вздорожали бы некоторые товары. На базаре не стало торгующих зеленью, корнеплодами, птицей. Иногда ничего нельзя было купить ни за какие деньги.
Стали убегать также рабочие из портовых мастерских и из порта – это были сплошь китайцы, работавшие дешевле русских. Теперь, когда потребовалось чинить повреждённые суда и каждый рабочий был дорог, почувствовался недостаток рабочих рук, необходимо было значительно усилить штат рабочих, но бежавшего ведь не вернёшь. Именно те, которые опасались, как бы их не вернули обратно, убегали сперва в деревни, а оттуда или на джонках, или же сухим путём через Инкоу пробирались домой, на Шандунь.
Теперь вспомнили, и не без горечи, что когда из Уссурийского края прибыли сюда русские переселенцы, нуждавшиеся в заработках, и предложили свои услуги в качестве рабочих в порту и в мастерских, то им отказали по той простой причине, что китайцы-де работают много дешевле, и нашим мужичкам пришлось вернуться обратно ни с чем. На железной дороге также всюду работали китайцы и китайцы. Новый сухой док, с постройкой которого надо было безумно спешить, строили также только руками китайцев. И эти работы стали. Конечно, полетели телеграммы всюду, откуда можно было надеяться получить столь необходимых мастеровых и рабочих. Но улита едет, когда-то будет, а время, столь дорогое время уходило».
***
Японская эскадра вице-адмирала Хиконодзё Камимуры 22 февраля 1904 года подошла к Владивостоку: пять броненосных крейсеров легли на боевой курс и, продвигаясь вдоль берега, открыли огонь. По городу было выпущено около двухсот снарядов. На улице Вороновской в Матросской слободе снаряд пробил деревянный домик мастера Кондакова, убив его беременную жену. А на плацу перед казармами Сибирского флотского экипажа разорвавшийся снаряд ранил пятерых матросов. Владивостокские береговые батареи на бомбардировку не ответили, поскольку орудия на них были устаревшими и не имели достаточной дальности стрельбы, чтобы достать японские корабли.
Русские крейсера стояли в бухте без паров, потому не смогли выйти в море достаточно быстро, чтобы отразить нападение. Когда они всё же снялись с рейда для преследования противника, было уже поздно: японские броненосцы успели благополучно ретироваться.
Следующий месяц Владивостокский отряд крейсеров провёл в бездействии, ни разу не выйдя в море. После этого командующего отрядом Н. К. Рейценштейна перевели в Порт-Артур, а на его место назначили контр-адмирала К. П. Иессена.
Вступив в должность, Карл Петрович Иессен поначалу повёл себя в духе своего предшественника. Первый месяц он не предпринимал активных действий на море, и лишь 10 апреля – для поднятия у моряков боевого духа – решился предпринять набег на японский флот в корейском порту Вонсан.
Но об этом речь впереди…
***
На рассвете 26 февраля возвращавшиеся в Порт-Артур из ночной разведки эскадренные миноносцы «Стерегущий» и «Решительный» были атакованы четырьмя японскими миноносцами (позже к ним присоединились ещё два крейсера). «Решительный», обладая хорошим ходом, прорвался в гавань Порт-Артура, успев основательно покурочить огнём своих орудий два неприятельских судна. «Стерегущий», маневрируя, вёл бой, несмотря на попадания в корпус японских снарядов. Командир корабля лейтенант А. С. Сергеев надеялся прорваться даже после того, как на верхнюю палубу выскочил кочегар Иван Хиринский, доложив:
– Снаряд разорвался в угольной яме, повредил два котла!
Вслед за Хиринским поднялся палубу машинист 2-й статьи Василий Новиков.
– Не выдюжим, – кашляя и отхаркиваясь от едкого чада, прохрипел он. – Сейчас потеряем ход… Не прорвёмся…
Оставшиеся внизу кочегар Алексей Осинин и кочегарный квартирмейстер Пётр Хасанов пытались устранить повреждения, но в кочегарку угодил новый снаряд – последовал ещё один взрыв, и хлынувшая сквозь пробоину вода залила топки. Обездвиженный «Стерегущий» продолжал артиллерийскую дуэль, однако после получасового боя орудия миноносца замолчали. А затем искромсанный вражескими снарядами корабль пошёл ко дну.
Из экипажа остались в живых только четверо матросов, в том числе Иван Хиринский и Василий Новиков… По возвращении на Родину все были награждены Георгиевскими крестами.
***
В России по-прежнему царили шапкозакидательские настроения. Имея регулярную армию численностью более миллиона человек, военное министерство продолжало держать отборные силы на западных рубежах империи, а на войну посылались мобилизованные запасники старших возрастов. Но туман войны[8 - Туман войны – термин, введённый в 1832 г. в трактате «О войне» прусским военачальником и теоретиком Карлом фон Клаузевицем и обозначающий отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя. В широком смысле подразумевает неизвестность состояния сил и занимаемых позиций на театре военных действий.] застилал обществу глаза. Далёкие от событий на Дальнем Востоке, обыватели черпали сведения из газетных статей и воспринимали войну с удивлением, иронией и пренебрежительной самонадеянностью. Собираясь на журфиксы или званые вечера, непременно принимались обсуждать настоятельную злобу дня:
– Нет, ну надо же: какая-то далёкая азиатская тмутаракань посмела объявить войну Российской империи. Чудеса в решете.
– Всё равно как если бы блоха вызвала на битву слона.
– Скорей уж не слона, а медведя.
– Видно, бог лишил рассудка японского императора. Результат выйдет плачевный, и каждый заранее знает, кому скоро настанет швах.
– Не понимает, на кого замахнулся.
– Да уж поймёт, когда наши ударят. Так раздадут на орехи, что будьте благонадёжны! Из японской армии пыль столбом поднимется к небесам! Возможно, одного хорошего удара будет довольно, чтобы от них помину не осталось.
– И правильно, пусть знают своё место.
– Одна досада: больно долго наши стратеги запрягают. Право слово, могли бы и побыстрее выдать косорылым на орехи.
– Рассея-матушка, что тут скажешь, от веку так водится.
– Действительно, нам не привыкать.
– А всё же, верно, и мы без потерь не обойдёмся. Людей-то жалко, солдатушек и офицеров.
– Чего уж там, без убыли не дождёшься и прибытка. Такая фортуна военная: сначала головой рискнёшь, а потом – и кресты на грудь тебе, и продвижение по службе.
– На «Цесаревиче» откачивали воду из затопленного отсека – тоже двоих задраенных вынули в разбухшем виде.
– Сколько ещё жертв принесёт война, можно только гадать.
– Если эскадра продолжит отсиживаться под защитой береговых батарей, то макаки чего доброго и десант высадить осмелятся.
– Худо, если так. Большинство фортов недостаточно вооружено, а иные совсем без орудий стоят, линия укреплений не сомкнута. Хотя и заторопились с работами против прежнего, а всё равно не достроить меньше, чем за год. Как обороняться при сплошных прорехах?
– Может, и в полгода достроимся. Инженерные офицеры из кожи вон лезут. Китайским чернорабочим увеличили подённую оплату до семидесяти копеек. Правда, говорят, рядчики-старшинники много больше получают, да и приворовать на строительстве им всегда способно. Ну да что ж, дело обычное, а от китайцев отбоя нету: работают, как муравьи, стараются.
– Сколь ни старайся, всех дыр в такой короткий срок не залатать.
– И народу в Артуре маловато. Подкреплений не помешало бы, а у нас людей только забирают – в Корею шлют и куда там ещё…
– Да, пехоты здесь надо вдвое больше, чем сейчас имеется. Форты растянуты вёрст на двадцать – если между ними равномерно распределиться, да ещё рассадить солдат по окопам в предполье, это действительно жидковато получается. Опять же, резервы какие-никакие надо держать про всякий случай, а откуда им взяться?
– Приморские батареи стоят уединённо, и никакой пехотной охраны им не выделено. Готовая пища для диверсантов. А ночи нынче стоят тёмные – милое дело для ползунов.
– Касаемо диверсантов – это верно, не помешало бы прибавить бдительности, не то как бы косорылые малыми силами не натворили непоправимых бед… Хотя с десантом, я думаю, они повременят. Им сейчас Корея интереснее: по всему, там начнётся главное дело.
– Одно другому не помеха. Не зря ведь командный состав отправляет свои семьи в Харбин да в Россию. Чай не дураки: понимают, что раньше или позже здесь станет припекать.
– Станет, ох станет!
– А куда денешься: чему быть, того не миновать…
В Порт-Артуре происходила быстрая убыль населения, и это сказывалось на многих сферах городской жизни. Так в дневнике Павла Ларенко[7 - Павел Ларенко – псевдоним Павла Петровича Лассмана, секретаря редакции порт-артурской газеты «Новый край». Свой дневник он опубликовал в 1906 году под упомянутым псевдонимом, назвав книгу «Страдные дни Порт-Артура».] уже на исходе третьего дня войны появилась следующая запись:
«Город всё больше пустеет. Весь контингент шумной весёлой публики, проживавшей здесь ради своего удовольствия или же для доставления удовольствия другим, исчез. Как мне говорили люди, заслуживавшие полного доверия, в эти дни платили иногда извозчику до вокзала до 25 рублей. Лишь бы скорее уехать! Вагоны были всегда набиты народом. Никому не хотелось остаться до следующего поезда. Многие довольствовались тем, что могли присесть только на свой багаж, авось по пути освободится местечко.
Узнаём очень неприятную новость – наш ассенизационный обоз перестал действовать. Подрядчик-арендатор его, японец Казаками, скрылся, его рабочие китайцы разбежались. Теперь городу грозило бедствие от собственных нечистот. Устройство клозетов было таково, что требовалась ежедневная очистка. Все они были переполнены. Это грозило заразой воздуха в то время, когда и без того ненормальная жизнь военного времени сулила сама по себе возможность разных эпидемических заболеваний.
Послышались громкие запросы – почему столь серьёзная отрасль городского хозяйства оказалась в городе и в крепости Порт-Артур в руках японца? Аргумент, что японец стоил городу меньше средств, не удовлетворял вопрошающих, так как из-за дешевизны нельзя было упускать из виду другие соображения. Разве не должны были об этом подумать? Но вопрос этот так и остался открытым до сей поры.
Теперь каждый сознавал, что услуги юрких японцев имели везде весьма неприятную для нас заднюю цель. Если они что делали, то не только ради наживы, но желали при этом выведать обо всём, узнать с точностью всё, что мы тут делаем – изучить все наши привычки, способности и слабости. Кругом заговорили открыто, что японцы-парикмахеры и некоторые из купцов были офицеры японского Генерального штаба, и что не было уголка, который был бы им недоступен. Поговаривали также, что немало, должно быть, осталось в крепости японцев, переодетых китайцами или припрятавшихся в укромных уголках для наблюдения за ходом событий, за нашими действиями.
Японский переводчик, служивший при полицейском управлении, православный и чуть ли не женатый на русской, скрылся также, хотя всё время уверял, что останется здесь, на службе. И он, вероятно, успел пробраться на иностранное судно, стоявшее ещё в гавани и ожидавшее прибытия остальных выезжающих из Маньчжурии японских подданных.
Довольно значительное число китайского населения покинуло город; оказалось, что японцы тайком пригрозили смертью всем, кто останется и будет помогать русским. В этом не было бы особенной беды, если бы одновременно с их отъездом не закрылось бы много китайских лавок и сразу не вздорожали бы некоторые товары. На базаре не стало торгующих зеленью, корнеплодами, птицей. Иногда ничего нельзя было купить ни за какие деньги.
Стали убегать также рабочие из портовых мастерских и из порта – это были сплошь китайцы, работавшие дешевле русских. Теперь, когда потребовалось чинить повреждённые суда и каждый рабочий был дорог, почувствовался недостаток рабочих рук, необходимо было значительно усилить штат рабочих, но бежавшего ведь не вернёшь. Именно те, которые опасались, как бы их не вернули обратно, убегали сперва в деревни, а оттуда или на джонках, или же сухим путём через Инкоу пробирались домой, на Шандунь.
Теперь вспомнили, и не без горечи, что когда из Уссурийского края прибыли сюда русские переселенцы, нуждавшиеся в заработках, и предложили свои услуги в качестве рабочих в порту и в мастерских, то им отказали по той простой причине, что китайцы-де работают много дешевле, и нашим мужичкам пришлось вернуться обратно ни с чем. На железной дороге также всюду работали китайцы и китайцы. Новый сухой док, с постройкой которого надо было безумно спешить, строили также только руками китайцев. И эти работы стали. Конечно, полетели телеграммы всюду, откуда можно было надеяться получить столь необходимых мастеровых и рабочих. Но улита едет, когда-то будет, а время, столь дорогое время уходило».
***
Японская эскадра вице-адмирала Хиконодзё Камимуры 22 февраля 1904 года подошла к Владивостоку: пять броненосных крейсеров легли на боевой курс и, продвигаясь вдоль берега, открыли огонь. По городу было выпущено около двухсот снарядов. На улице Вороновской в Матросской слободе снаряд пробил деревянный домик мастера Кондакова, убив его беременную жену. А на плацу перед казармами Сибирского флотского экипажа разорвавшийся снаряд ранил пятерых матросов. Владивостокские береговые батареи на бомбардировку не ответили, поскольку орудия на них были устаревшими и не имели достаточной дальности стрельбы, чтобы достать японские корабли.
Русские крейсера стояли в бухте без паров, потому не смогли выйти в море достаточно быстро, чтобы отразить нападение. Когда они всё же снялись с рейда для преследования противника, было уже поздно: японские броненосцы успели благополучно ретироваться.
Следующий месяц Владивостокский отряд крейсеров провёл в бездействии, ни разу не выйдя в море. После этого командующего отрядом Н. К. Рейценштейна перевели в Порт-Артур, а на его место назначили контр-адмирала К. П. Иессена.
Вступив в должность, Карл Петрович Иессен поначалу повёл себя в духе своего предшественника. Первый месяц он не предпринимал активных действий на море, и лишь 10 апреля – для поднятия у моряков боевого духа – решился предпринять набег на японский флот в корейском порту Вонсан.
Но об этом речь впереди…
***
На рассвете 26 февраля возвращавшиеся в Порт-Артур из ночной разведки эскадренные миноносцы «Стерегущий» и «Решительный» были атакованы четырьмя японскими миноносцами (позже к ним присоединились ещё два крейсера). «Решительный», обладая хорошим ходом, прорвался в гавань Порт-Артура, успев основательно покурочить огнём своих орудий два неприятельских судна. «Стерегущий», маневрируя, вёл бой, несмотря на попадания в корпус японских снарядов. Командир корабля лейтенант А. С. Сергеев надеялся прорваться даже после того, как на верхнюю палубу выскочил кочегар Иван Хиринский, доложив:
– Снаряд разорвался в угольной яме, повредил два котла!
Вслед за Хиринским поднялся палубу машинист 2-й статьи Василий Новиков.
– Не выдюжим, – кашляя и отхаркиваясь от едкого чада, прохрипел он. – Сейчас потеряем ход… Не прорвёмся…
Оставшиеся внизу кочегар Алексей Осинин и кочегарный квартирмейстер Пётр Хасанов пытались устранить повреждения, но в кочегарку угодил новый снаряд – последовал ещё один взрыв, и хлынувшая сквозь пробоину вода залила топки. Обездвиженный «Стерегущий» продолжал артиллерийскую дуэль, однако после получасового боя орудия миноносца замолчали. А затем искромсанный вражескими снарядами корабль пошёл ко дну.
Из экипажа остались в живых только четверо матросов, в том числе Иван Хиринский и Василий Новиков… По возвращении на Родину все были награждены Георгиевскими крестами.
***
В России по-прежнему царили шапкозакидательские настроения. Имея регулярную армию численностью более миллиона человек, военное министерство продолжало держать отборные силы на западных рубежах империи, а на войну посылались мобилизованные запасники старших возрастов. Но туман войны[8 - Туман войны – термин, введённый в 1832 г. в трактате «О войне» прусским военачальником и теоретиком Карлом фон Клаузевицем и обозначающий отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя. В широком смысле подразумевает неизвестность состояния сил и занимаемых позиций на театре военных действий.] застилал обществу глаза. Далёкие от событий на Дальнем Востоке, обыватели черпали сведения из газетных статей и воспринимали войну с удивлением, иронией и пренебрежительной самонадеянностью. Собираясь на журфиксы или званые вечера, непременно принимались обсуждать настоятельную злобу дня:
– Нет, ну надо же: какая-то далёкая азиатская тмутаракань посмела объявить войну Российской империи. Чудеса в решете.
– Всё равно как если бы блоха вызвала на битву слона.
– Скорей уж не слона, а медведя.
– Видно, бог лишил рассудка японского императора. Результат выйдет плачевный, и каждый заранее знает, кому скоро настанет швах.
– Не понимает, на кого замахнулся.
– Да уж поймёт, когда наши ударят. Так раздадут на орехи, что будьте благонадёжны! Из японской армии пыль столбом поднимется к небесам! Возможно, одного хорошего удара будет довольно, чтобы от них помину не осталось.
– И правильно, пусть знают своё место.
– Одна досада: больно долго наши стратеги запрягают. Право слово, могли бы и побыстрее выдать косорылым на орехи.
– Рассея-матушка, что тут скажешь, от веку так водится.
– Действительно, нам не привыкать.
– А всё же, верно, и мы без потерь не обойдёмся. Людей-то жалко, солдатушек и офицеров.
– Чего уж там, без убыли не дождёшься и прибытка. Такая фортуна военная: сначала головой рискнёшь, а потом – и кресты на грудь тебе, и продвижение по службе.