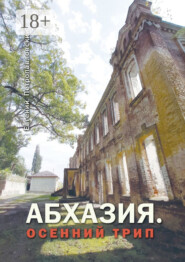По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чингис-хан, божий пёс
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
***
После разгрома меркитов хан Тогорил вернулся в свою ставку. А Тэмуджин и Джамуха, проехав осенней степью, покрытой ноздреватыми языками подтаивавшего снега, остановились у подножия горы Хулдахаркун. Здесь они решили подтвердить своё мальчишеское побратимство и устроили пир. Вновь, как в детстве, обменялись подарками. Джамуха подвёл Тэмуджину захваченного у врага коня по кличке Эбертуунгун[42 - Эбертуунгун – рогатый жеребчик.] и вручил ему золотой пояс. Тэмуджин также опоясал своего анду трофейным золотым поясом и подарил ему Эсхель-халиун[43 - Эсхель-халиун – выдра.], личную кобылу посрамлённого меркитского хана Тохтоа-беки.
Были пляски и состязания, воины веселились, заодно с побратимством своих предводителей отмечая и победу над меркитами. Тэмуджин пил много архи, и Джамуха от него не отставал. Оба изрядно захмелели и до глубокой ночи пели песни вместе со своими багатурами. А потом легли спать под одним одеялом.
– Давай отныне кочевать вместе, – предложил Джамуха.
– Давай, – согласился Тэмуджин.
– Не зря говорят, что разделившиеся братья спустя год становятся просто соседями, а объединившиеся соседи скоро превращаются в братьев.
– А мы с тобой не просто братья, мы – анды. Теперь наши народы всегда будут защищать друг друга.
***
С тех пор как Тэмуджин и Джамуха решили кочевать вместе, они разбили свои курени поблизости друг от друга.
Надвигалась зима. Тихо и неприметно сменялись протяжные дни, полные мира и согласия. И Тэмуджину уже стало казаться, что так будет всегда. Что суровые испытания и превратности судьбы, которые остались за спиной, уже никогда не вернутся, не потревожат, не ударят исподтишка. Что впереди ждут долгие годы благословенного спокойствия – без коварства и зла, без незаслуженных обид и унижений, без предательства соплеменников и вражьих посягательств. Что изжита вся пагуба, отпущенная на его долю, и ветер горестных невзгод больше не налетит из степи, дабы перевернуть вверх тормашками устоявшийся уклад и разметать по белому свету угли из очага Борджигинов.
Бортэ была рядом с Тэмуджином, и ему больше ничего не требовалось. Поистине разлука для любви – как ветер для огня: малое чувство она способна погасить, а большое раздувает до небес. Так день за днём разгоралась и любовь Тэмуджина к Бортэ.
Но вскоре на него обрушилась новая беда. Грянула как гром среди ясного неба и пришибла к земле.
Однажды ночью, когда они с Бортэ остались вдвоём в своей юрте, и Тэмуджин принялся гладить её тугое и тёплое тело, ощущая нараставшее желание и предвкушая сладкий миг соединения, его жена вдруг залилась слезами и призналась, что ждёт ребёнка.
Её обрюхатил поганый Чильгир-Боко!
Возможно ли было услышать весть хуже этой? Даже когда меркиты отняли у него Бортэ, Тэмуджин мог действовать, бороться, у него оставалась надежда, что он сумеет вызволить её из неволи. Теперь же никакой надежды не было. Его жена взращивает в своём чреве вражье семя – и он не в силах воспрепятствовать этому. Не такого исхода ожидал Тэмуджин, когда вызволял её из меркитской неволи.
Окружающие предметы плыли перед ним, как в тумане. Стиснув челюсти, с лицом, похожим на застывшую маску, он торопливо оделся. Вышел из юрты и, оседлав коня, поскакал в степь. Всё быстрее и быстрее, куда глаза глядят. Холод пробирал его до костей; потоки встречного воздуха колюче били в лицо и шевелили волосы. Вскоре Тэмуджин уже мчался во весь опор, низко пригнувшись к конской гриве, точно старался оторваться от погони неумолимых дум. Однако это не приводило к утешительному результату.
Прежде многое в его жизни казалось непрочным, шатким, переменчивым; не каждый сумел бы приноровиться к подобному положению вещей, но Тэмуджин считал, что ему это удалось, ведь он не чета другим, он лучше, сильнее, упорнее обычных людей – как тех, кто вставал у него на пути, так и тех, кто ему сопутствовал. Да, так он считал до последнего момента, когда Бортэ призналась ему в своей беременности. А теперь мир рухнул для него.
Надо было принять какое-то решение, но в голове царил полный сумбур, не позволяя этого сделать.
Гулко отзываясь на удары копыт, охала стылая земля. Тэмуджин скакал навстречу ночи, до самого её края, за которым занимался неприветливый рассвет, и первые лучи пробуждавшегося в нижнем мире солнца постепенно разжижали стылую мглу… Под пламенеющими облаками всё не останавливался он, всё продолжал мчаться, словно тщился обогнать собственную тень. Багровая пелена ревности застилала ему глаза, и мир, погружённый в кровавый туман, пульсировал в такт учащённым ударам сердца; Тэмуджин словно скользил по гибельному лабиринту, не имея ни сил, ни возможности остановиться – он не чувствовал собственного веса и скользил, скользил, скользил, безвозвратно проваливаясь в клокочущее чрево безумия.
Все его старания ускакать, спастись от мучительных душевных терзаний были напрасны.
Спасения не существовало.
Глава четвёртая.
Сила тянется к силе
И ровное поле
Овеяло пришлым ветром,
И крепкие всходы
уже набухают новью.
Тао Юань-Мин
Лишь тот, кто имеет силу, может давать её другим.
Лао-цзы
По мере того как рос живот Бортэ, Тэмуджин делался всё мрачнее.
В его сердце поселились горечь и смятение, коих он был не в силах превозмочь. Ему чудилось, что повсюду он ловит на себе косые взгляды соплеменников. В каждом слове, обращённом к нему, Тэмуджин выискивал скрытую насмешку.
Почему с ним случилась эта беда? За что Великий Тэнгри послал ему такое испытание? Неужели мало страданий и унижений претерпел он в своей жизни?
Если б ему родиться в другие, более спокойные времена, в другом месте! И встретить не Бортэ, а другую женщину! Да, тогда у него всё могло бы сложиться иначе, и он не испытывал бы столь жестоких мук. Думать об этом было невыносимо. Но ведь без Бортэ он не представлял своего существования – ни до сего дня, ни теперь! И её любовь всегда была чиста, как вода в роднике! Да, то, что было между ними в прошлом, не бросить наземь и не упрятать в котомку. Значит, придётся выпить до дна отравленную чашу меркитского поругания.
– Человек слаб, ему не одолеть судьбы, ниспосланной свыше, – тихо приговаривал Тэмуджин, глядя на располневшую жену. – Овца покорна своему пастуху, а не хозяину. Вот такие дела происходят на свете… Опоздал я, ох опоздал.
Всё больше времени проводил он в своей юрте, выходя из неё только по крайней необходимости. Всё чаще – отрывистыми фразами, будто распоряжался о наказании провинившемуся нукеру – приказывал Бортэ принести кувшин с архи.
Нет, он ни разу не поднял на неё руку и никогда не оскорбил бранным словом бедную Бортэ. Разве она была повинна в том, что подневольно исполнила предназначение, заложенное в неё женской природой? Ведь это он, Тэмуджин, вместо того чтобы принять смерть от меркитского меча, защищая свой нутуг и своих женщин – жену и мать, – трусливо бежал на Бурхан-Халдун и спрятался за спасительной стеной непроходимой лесной чащи. Если на лошади, выкраденной из табуна, скачет чужой человек, винить в этом её хозяин должен самого себя, раз не сумел воспрепятствовать воровству. Только себя, но никак не лошадь.
Да, это он, малодушно сохраняя свою жизнь, отдал любимую Бортэ в лапы ненавистных меркитов!
Зато теперь ему бежать некуда. Ни одна – даже самая высокая – гора и никакая – даже самая густая – чащоба не смогут укрыть его от позора, не спасут от ненависти и презрения к самому себе. Верно говорят: упущенных возможностей не поймать самым длинным арканом. И ещё говорят: обиду злобой не успокоишь, огня маслом не погасишь.
Воин – в победоносном походе или в удачном набеге – волен подостлать под себя любую женщину из поверженного племени, это его неотъёмное право и справедливая награда за удаль и отвагу; подобное повторялось всегда, из года в год, из поколения в поколение. Ещё недавно разве мог представить Тэмуджин, что его постигнет участь побеждённого и униженного? Нет, не мог! Так уж устроен род человеческий: каждый надеется, что беда минует его стороной.
О если б знать всё наперёд!
Тэмуджин сознавал, что бесполезно терзаться запоздалым раскаянием. И что его ревность несправедлива. И тем более знал он, что свершившегося не изменить, не исправить, ибо никому ещё не удалось повернуть время вспять и выкорчевать корни грядущих несчастий.
Однако он не мог ничего с собой поделать. Во всём, что произошло с ним и Бортэ, ему чудился какой-то чудовищный обман. Словно кто-то напустил на него наваждение, от которого не избавиться, не спастись до конца жизни.
Иногда Тэмуджин пытался представить, как это было у неё с Чильгиром: прыгающие мужские ягодицы над широко распахнутыми из-под них белыми ногами Бортэ… её закушенная от наслаждения нижняя губа, так она часто делает, когда не в силах скрыть удовольствия… два жарких дыхания, которые, слившись воедино, всё учащаются, учащаются, учащаются… а затем – стоны… О-о-о-о-о, эти стоны страсти, выплёскивающиеся до самого неба! Как хорошо он знал их! Как явственно и непоправимо они сверлили его измученный слух!
До чего же ему было тягостно, мучительно, нестерпимо представлять всё это! Настолько тягостно, настолько нестерпимо, что липкий тошнотворный ком подкатывал к горлу и до судороги, до боли в зубах сводило скулы.
В подобные минуты Тэмуджину действительно хотелось ударить Бортэ. Но он одёргивал себя и, сжав кулаки, шептал – полуосмысленно и почти неслышно, с безумным блеском в глазах:
– Она ни в чём не виновата, ни в чём не виновата! Не я ли говорил ей, что мы подходим друг другу, как подходит крышка к кувшину, как стрела подходит к колчану и лук – к саадаку? Но это ведь я не сумел оградить её и себя от несчастья! Значит, во всём случившемся повинен только я и никто больше!
И, притянув Бортэ к себе, валил её на войлочную постель, принимался срывать с неё одежду.
– Глубокое озеро может замутить разве только целый табун, – выдыхал ей в лицо, – а от купания одного жалкого одра водоём не замутится, верно?
И с воинственной бесцеремонностью, точно желая наказать жену за невольную измену, входил в её горячее лоно. Перед глазами Тэмуджина плыла багровая пелена. А Бортэ испуганно смотрела на него во все глаза и стонала, закусив губу; иногда она вскрикивала от слишком резких толчков, но не смела противиться…