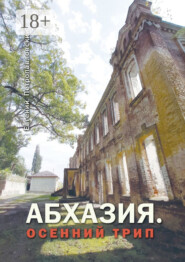По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Порт-Артур, Маньчжурия. Смертные поля…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алексеев 6 мая прислал Витгефту телеграмму с приказом отправить миноносцы под прикрытием крейсеров для противодействия десантному флоту неприятеля. Контр-адмирал созвал командиров кораблей – принялись обсуждать. Все не горели энтузиазмом ввязываться в сражения и выдвигали самые разнообразные, порой доходившие до смехотворности возражения:
– Чересчур большое расстояние, всё равно не поспеем.
– К тому же техническое состояние механизмов у половины судов не позволяет идти столь далеко.
– Японцы небось не дураки: всюду, где возможно, уже понаставили мин – подстраховались от неожиданностей.
– Это очень в их духе… В таком случае, пускай мы отсюда до чистой воды дойдём с тралами на малом ходу, но дальше-то весь путь не протралишь: непосильная задача. Вот и не знаешь, где наткнёшься.
– Со своей стороны, под прикрытием вылазки мы могли бы теперь сравнительно безопасно минировать желаемые места в ближних водах. Однако отправляться столь далеко, как требует наместник, – авантюра.
– Тем более ночи ныне стоят лунные: неприятель издалека нас заметит.
– Как пить дать заметит – не миновать артиллерийской дуэли на дальних подступах.
– Только миноносцы зря потеряем.
– Вот именно. К чему столь непомерный риск? Предлагаемый рейд – предприятие громоздкое, возможное только при особо благоприятных условиях. От несчастливого исхода он никоим образом не может быть обеспечен.
– У Того и так значительное превосходство в силах, мы более не должны допускать оплошностей. С нашей куцей эскадрой дай-то бог здесь, у Артура, отбиться.
– Пытаясь оспаривать у японцев обладание морем или прервать его сообщение с сухопутными войсками, мы успеха никоим образом не добьёмся. Зато отвлекая на себя неприятельский флот, мы тем самым освобождаем от надзора Владивостокский отряд крейсеров, развязываем ему возможности для набегов на японские на пути сообщения.
– Совершенно справедливо. Хотя наши задачи поневоле сделались второстепенными, но ведь сейчас Артур стерегут десятки судов противника. Разве этого недостаточно?
– Как бы то ни было, это самое большее, на что мы сегодня способны…
В итоге Алексееву сообщили об отказе идти к Бицзыво из-за общего неверия в успех предприятия.
Со Стесселем у Витгефта взаимодействие тоже оставляло желать лучшего. Так, например, позднее, уже во времена блокады, когда наступил острый дефицит продуктов питания, контр-адмирал отказался предоставить генералу сведения о запасах продовольствия, артиллерийских снарядов и строительных материалов, имевшихся в порту и на судах эскадры. Чтобы моряки выполняли его распоряжения, Стесселю нередко приходилось обращаться по телеграфу к наместнику Е. И. Алексееву за помощью; однако последний, сам будучи моряком, не всегда реагировал на просьбы генерала положительным образом.
Такое недоверие вполне объяснимо, если принять во внимание, что начальник укрепрайона всемерно выказывал своё пренебрежение не только к Витгефту, но и ко всему флоту:
«Генерал Стессель вместо объединения армии и флота везде сам вносил раздор и, стараясь быть популярным среди сухопутной молодёжи, ругал моряков и не стеснялся даже поносить самого командующего флотом контр-адмирала Витгефта.
Дошло до того, что офицеров начали оскорблять на улице.
Начальник района не принимал никаких мер, чтобы прекратить эти безобразия. Почему у него явилась такая ненависть к флоту, я положительно не могу себе объяснить.
Но это было только начало. Впоследствии эта травля дошла до невероятных размеров и потухла лишь только тогда, когда смерть неумолимая не различала ни моряка, ни пехотинца».
Выше я привёл воспоминания корреспондента Порт-Артурской газеты «Новый край» Евгения Константиновича Ножина. В 1906 году он издал книгу «Правда о Порт-Артуре», в которой описал, в частности, как Стессель отнёсся к заготовке припасов на начальном этапе войны:
«С отъездом наместника в Мукден полновластным хозяином крепости стал генерал Стессель, сдерживаемый ещё телеграфом.
Население и купцы уже в середине февраля начали роптать на бессмысленно жестокий режим Стесселя.
С постепенным сосредоточением боевых сил на севере, в Артур стала прибывать масса офицеров для закупки всевозможных продовольственных запасов.
Из крепости, отделённой от России несколькими тысячами вёрст, блокируемой уже с моря, ожидавшей по естественному ходу событий появления противника на суше, вывозились целыми вагонами сахар, мука, соль, консервированное молоко, зелень, рыбные и мясные консервы и т. д.
Генерал Стессель, объявляя приказ 14-го февраля за №126, в котором говорилось, что отступления не будет, что с трёх сторон море, с четвёртой неприятель, – позволял, даже скажу больше, фактически поощрял вывоз предметов первой необходимости, в которых в октябре, ноябре и декабре месяцах ощущался сильный недостаток, вызвавший цинготные заболевания.
Когда генералу Стесселю указывалось, что вывоз продуктов из Артура может его поставить, в случае тесной блокады, в крайне тяжёлое положение в отношении питания гарнизона, то он отвечал, что Куропаткин не допустит изоляции Артура, а если Артур и будет отрезан, то на самое непродолжительное время.
Когда же протесты повторялись, он предложил, как комендант осаждённой крепости, не вмешиваться в его распоряжения.
Подчинённым ему гражданским властям оставалось умолкнуть и безучастно следить, как таяли запасы Артура.
Некоторые купцы, поняв, что в сосредоточивающейся армии сильный недостаток в продуктах, сами уже стали отправлять их вагонами на север.
В крепости творилось что-то невероятное. Она производила впечатление не крепости, готовящейся защищаться до последнего, а какой-то ярмарки, главного продовольственного склада для концентрирующейся на севере армии, в который приезжали и дельце обделать, и в карты поиграть, и покутить…»
***
В начале мая настали «чёрные дни японского флота». Самые большие потери под Порт-Артуром произошли у японцев 2 мая, когда на минах, поставленных по инициативе капитана минного транспорта «Амур» Фёдора Иванова, подорвались и пошли на дно два броненосца – «Хатцусё» и «Яшима»; а затем столкнулись два японских крейсера – один из них затонул. В тот же день напоролись на мины и погибли лёгкий крейсер и посыльное судно неприятеля. В общей сложности за первую половину мая флот адмирала Того потерял семь кораблей. После этого японские суда нечасто решались подходить близко к Порт-Артуру.
В описываемые дни в городе царило воодушевление. Победа казалась возможной, и все пребывали в приподнятом настроении. Газета «Новый край» 10 мая опубликовала стихотворение артурского поэта – сапёрного капитана В. Ф. Линдера:
ЗАЩИТНИКАМ ПОРТ-АРТУРА
Теперь, когда судьба сулит борьбу с врагами
За честь родной страны у дальних берегов,
Как ярко в памяти рисуется пред нами
Бой севастопольских прославленных борцов.
Пошли, Господь, нам всем Твоё благословенье,
Твой благодатный лик яви нам в час борьбы,
И в грозный сечи час даруй тем всепрощенье,
Кто вознесёт к Тебе предсмертные мольбы!
Мы смело в бой пойдём, и миру вновь докажем,
Как силен русский дух под сению знамён, —
Мы победим врага, – не то костьми поляжем,
Как в Севастополе четвёртый бастион.
Мы ляжем за царя, за блеск его державы,
Да воссияет вновь наш древний царский щит!
Да возвеличится Руси орёл двуглавый
И всюду над врагом победно запарит!
Да будут памятны японцам самомнящим
Артурских грозных стен и молнии, и гром,
Вещавших торжество над «Солнцем Восходящим»
Двуглавого орла с Андреевским крестом.
Жаль, что грядущее не оправдало ожиданий, которые питал Вольдемар Фридрихович Линдер в мае 1904 года. Не так долго оставалось до хмурого дня 26 октября, когда его артурский товарищ, военный инженер М. И. Лилье сделает запись в своём дневнике:
«…Сегодня умер от разрыва сердца раненый капитан Линдер. Капитан Линдер был в высшей степени образованный и воспитанный человек, много видавший и перенёсший на своём веку. Он недурно писал стихи…».
***
Итак, «чёрные дни японского флота» миновали, и на этом русская удача кончилась.
– Чересчур большое расстояние, всё равно не поспеем.
– К тому же техническое состояние механизмов у половины судов не позволяет идти столь далеко.
– Японцы небось не дураки: всюду, где возможно, уже понаставили мин – подстраховались от неожиданностей.
– Это очень в их духе… В таком случае, пускай мы отсюда до чистой воды дойдём с тралами на малом ходу, но дальше-то весь путь не протралишь: непосильная задача. Вот и не знаешь, где наткнёшься.
– Со своей стороны, под прикрытием вылазки мы могли бы теперь сравнительно безопасно минировать желаемые места в ближних водах. Однако отправляться столь далеко, как требует наместник, – авантюра.
– Тем более ночи ныне стоят лунные: неприятель издалека нас заметит.
– Как пить дать заметит – не миновать артиллерийской дуэли на дальних подступах.
– Только миноносцы зря потеряем.
– Вот именно. К чему столь непомерный риск? Предлагаемый рейд – предприятие громоздкое, возможное только при особо благоприятных условиях. От несчастливого исхода он никоим образом не может быть обеспечен.
– У Того и так значительное превосходство в силах, мы более не должны допускать оплошностей. С нашей куцей эскадрой дай-то бог здесь, у Артура, отбиться.
– Пытаясь оспаривать у японцев обладание морем или прервать его сообщение с сухопутными войсками, мы успеха никоим образом не добьёмся. Зато отвлекая на себя неприятельский флот, мы тем самым освобождаем от надзора Владивостокский отряд крейсеров, развязываем ему возможности для набегов на японские на пути сообщения.
– Совершенно справедливо. Хотя наши задачи поневоле сделались второстепенными, но ведь сейчас Артур стерегут десятки судов противника. Разве этого недостаточно?
– Как бы то ни было, это самое большее, на что мы сегодня способны…
В итоге Алексееву сообщили об отказе идти к Бицзыво из-за общего неверия в успех предприятия.
Со Стесселем у Витгефта взаимодействие тоже оставляло желать лучшего. Так, например, позднее, уже во времена блокады, когда наступил острый дефицит продуктов питания, контр-адмирал отказался предоставить генералу сведения о запасах продовольствия, артиллерийских снарядов и строительных материалов, имевшихся в порту и на судах эскадры. Чтобы моряки выполняли его распоряжения, Стесселю нередко приходилось обращаться по телеграфу к наместнику Е. И. Алексееву за помощью; однако последний, сам будучи моряком, не всегда реагировал на просьбы генерала положительным образом.
Такое недоверие вполне объяснимо, если принять во внимание, что начальник укрепрайона всемерно выказывал своё пренебрежение не только к Витгефту, но и ко всему флоту:
«Генерал Стессель вместо объединения армии и флота везде сам вносил раздор и, стараясь быть популярным среди сухопутной молодёжи, ругал моряков и не стеснялся даже поносить самого командующего флотом контр-адмирала Витгефта.
Дошло до того, что офицеров начали оскорблять на улице.
Начальник района не принимал никаких мер, чтобы прекратить эти безобразия. Почему у него явилась такая ненависть к флоту, я положительно не могу себе объяснить.
Но это было только начало. Впоследствии эта травля дошла до невероятных размеров и потухла лишь только тогда, когда смерть неумолимая не различала ни моряка, ни пехотинца».
Выше я привёл воспоминания корреспондента Порт-Артурской газеты «Новый край» Евгения Константиновича Ножина. В 1906 году он издал книгу «Правда о Порт-Артуре», в которой описал, в частности, как Стессель отнёсся к заготовке припасов на начальном этапе войны:
«С отъездом наместника в Мукден полновластным хозяином крепости стал генерал Стессель, сдерживаемый ещё телеграфом.
Население и купцы уже в середине февраля начали роптать на бессмысленно жестокий режим Стесселя.
С постепенным сосредоточением боевых сил на севере, в Артур стала прибывать масса офицеров для закупки всевозможных продовольственных запасов.
Из крепости, отделённой от России несколькими тысячами вёрст, блокируемой уже с моря, ожидавшей по естественному ходу событий появления противника на суше, вывозились целыми вагонами сахар, мука, соль, консервированное молоко, зелень, рыбные и мясные консервы и т. д.
Генерал Стессель, объявляя приказ 14-го февраля за №126, в котором говорилось, что отступления не будет, что с трёх сторон море, с четвёртой неприятель, – позволял, даже скажу больше, фактически поощрял вывоз предметов первой необходимости, в которых в октябре, ноябре и декабре месяцах ощущался сильный недостаток, вызвавший цинготные заболевания.
Когда генералу Стесселю указывалось, что вывоз продуктов из Артура может его поставить, в случае тесной блокады, в крайне тяжёлое положение в отношении питания гарнизона, то он отвечал, что Куропаткин не допустит изоляции Артура, а если Артур и будет отрезан, то на самое непродолжительное время.
Когда же протесты повторялись, он предложил, как комендант осаждённой крепости, не вмешиваться в его распоряжения.
Подчинённым ему гражданским властям оставалось умолкнуть и безучастно следить, как таяли запасы Артура.
Некоторые купцы, поняв, что в сосредоточивающейся армии сильный недостаток в продуктах, сами уже стали отправлять их вагонами на север.
В крепости творилось что-то невероятное. Она производила впечатление не крепости, готовящейся защищаться до последнего, а какой-то ярмарки, главного продовольственного склада для концентрирующейся на севере армии, в который приезжали и дельце обделать, и в карты поиграть, и покутить…»
***
В начале мая настали «чёрные дни японского флота». Самые большие потери под Порт-Артуром произошли у японцев 2 мая, когда на минах, поставленных по инициативе капитана минного транспорта «Амур» Фёдора Иванова, подорвались и пошли на дно два броненосца – «Хатцусё» и «Яшима»; а затем столкнулись два японских крейсера – один из них затонул. В тот же день напоролись на мины и погибли лёгкий крейсер и посыльное судно неприятеля. В общей сложности за первую половину мая флот адмирала Того потерял семь кораблей. После этого японские суда нечасто решались подходить близко к Порт-Артуру.
В описываемые дни в городе царило воодушевление. Победа казалась возможной, и все пребывали в приподнятом настроении. Газета «Новый край» 10 мая опубликовала стихотворение артурского поэта – сапёрного капитана В. Ф. Линдера:
ЗАЩИТНИКАМ ПОРТ-АРТУРА
Теперь, когда судьба сулит борьбу с врагами
За честь родной страны у дальних берегов,
Как ярко в памяти рисуется пред нами
Бой севастопольских прославленных борцов.
Пошли, Господь, нам всем Твоё благословенье,
Твой благодатный лик яви нам в час борьбы,
И в грозный сечи час даруй тем всепрощенье,
Кто вознесёт к Тебе предсмертные мольбы!
Мы смело в бой пойдём, и миру вновь докажем,
Как силен русский дух под сению знамён, —
Мы победим врага, – не то костьми поляжем,
Как в Севастополе четвёртый бастион.
Мы ляжем за царя, за блеск его державы,
Да воссияет вновь наш древний царский щит!
Да возвеличится Руси орёл двуглавый
И всюду над врагом победно запарит!
Да будут памятны японцам самомнящим
Артурских грозных стен и молнии, и гром,
Вещавших торжество над «Солнцем Восходящим»
Двуглавого орла с Андреевским крестом.
Жаль, что грядущее не оправдало ожиданий, которые питал Вольдемар Фридрихович Линдер в мае 1904 года. Не так долго оставалось до хмурого дня 26 октября, когда его артурский товарищ, военный инженер М. И. Лилье сделает запись в своём дневнике:
«…Сегодня умер от разрыва сердца раненый капитан Линдер. Капитан Линдер был в высшей степени образованный и воспитанный человек, много видавший и перенёсший на своём веку. Он недурно писал стихи…».
***
Итак, «чёрные дни японского флота» миновали, и на этом русская удача кончилась.