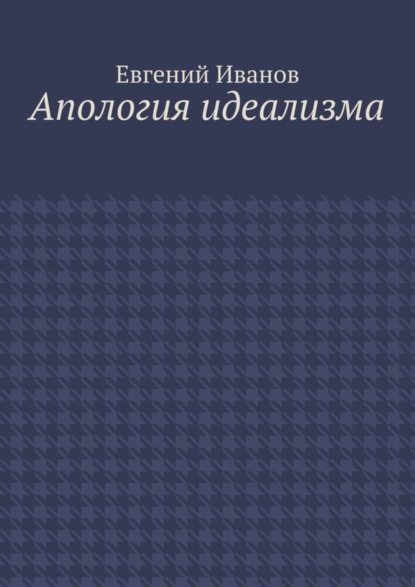По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Апология идеализма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Апология идеализма
Евгений Михайлович Иванов
В книге исследуется идеалистическое мировоззрение, основанное на идее первичной реальности сознания и вторичности всякой внеположной сознанию реальности. Дано обоснование истинности идеалистической онтологии и гносеологии. Показаны преимущества идеализма над классическим репрезентационизмом и интуитивизмом, а также возможность истолкования с позиций идеализма смысла неклассической квантово-релятивистской научной картины мира и решения с позиций идеализма психофизической проблемы.
Апология идеализма
Евгений Михайлович Иванов
© Евгений Михайлович Иванов, 2016
ISBN 978-5-4483-2545-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Почему идеализм, т.е. воззрение, основанное на идее первичной реальности сознания и вторичности всякой иной, внеположной сознанию реальности, должен быть возрожден и почему он имеет преимущество над всеми другими альтернативными философскими системами – на этот вопрос мы попытаемся ответить в данной работе. В последних двух главах мы также рассмотрим возможность использования идеалистического миропонимания для прояснения смысла современной научной квантово-релятивистской картины мира, а также проясним перспективы использования идеализма как методологии решения психофизической проблемы.
Сознание как интегральный опыт
Начнем с вопроса: что такое сознание. Сознание, с позиции идеализма, естественно определить как совокупный опыт, в той или иной форме (чувственной или внечувственной) данный субъекту (иные подходы к пониманию сознания мы рассмотрим ниже). Такое понимание сознания автоматически ведет нас к признанию приоритетности идеалистического воззрения. Действительно, если сознание есть совокупный опыт, данный субъекту, то следует признать, что сознание, его содержимое – это единственная известная нам форма бытия. Все прочее (если оно вообще существует) – дано через посредство фактов сознания: либо в виде чувственных образов (если мы признаем, что за образами, в качестве их «внешней причины», стоят «сами вещи»), либо в виде смысловых образований (например, когда мы говорим об элементах научной картины мира – атомах, полях, элементарных частицах и т.п.). Действительно, с точки зрения научной психологии и физиологии восприятия, мы видим не «сам предмет», а его сенсорный образ, существующий непосредственно в сознании. Также естественно предположить, что и мыслим мы не «саму вещь», но мысль о вещи. Иными словами – все, что доступно нам в качестве опыта – есть лишь содержимое нашего собственного сознания.
Не верно было бы с этих позиций говорить, подобно Б. Расселу, что мы видим «внутренность собственного мозга», т.к. и мозг и наше тело – как мы их воспринимаем, есть с этой точки зрения лишь образы, существующие внутри нашего собственного сознания. Если нам дано лишь наше собственное сознание, точнее, его содержимое, то предполагать какое-либо иное бытие, внеположное сознанию, по меньшей мере, рискованно, а по сути даже и бессмысленно. Само бытие, как таковое, известно нам лишь как наше собственное бытие – мы знаем, что «что-то существует», поскольку существуем мы сами. Если я не существую, то для меня вообще ничего не существует. Следовательно, всякое «инобытие» дано мне лишь в формах моего собственного бытия.
Мысль о «внеположном сознанию бытии», если она осмысленна, имеет конкретное содержание, должна каким-то образом «указывать» на свой предмет, должна как-то «иметь его в виду». Если я мыслю «сам стол» (в качестве внеположной сознанию реальности), то мысль о столе должна как-то указывать именно на этот внеположный мне стол, как-то иметь его в виду в качестве своего предмета. Но как такое интенциональное указание на предмет мысли возможно, если предмет мыслится именно как внеположный сознанию, а значит внеположный по отношению ко всякому возможному опыту? Предметом указания, «имения в виду» может быть, очевидно, лишь то, что как-то присутствует в опыте, как-то дано субъекту, а дано оно может быть лишь как факт сознания. Мы не можем «выпрыгнуть» за пределы собственного сознания, «выпрыгнуть» за рамки возможного опыта к «самой внеположной вещи», так, чтобы эта вещь, при этом, не стала частью нашего опыта. Как только мы помыслили вещь в качестве «трансцендентного предмета», она в тот же миг стала частью нашего опыта, т.е. стала чем-то существующим в пределах сознания, поскольку мысль становится содержательной только через указание на свой предмет, на то, что в этой мысли мыслится. Таким образом, «внеположный предмет», с т.з. понимания сознания как «интегрального опыта», есть некий нонсенс, нечто подобное «круглому квадрату». Замысливая «трансцендентный предмет», мы тем самым пытаемся генерировать мысль, которая отрицает собственную принадлежность к классу мыслей, т.е. утверждает сама о себе: «я не мысль», что противоречиво. Все, что мы мыслим – это наши мысли, все, что воспринимаем – наши сенсорные образы. Если это так, то нужно признать, что никакой «трансцендентной» в абсолютном смысле реальности, полностью пребывающей за пределами нашего сознания, не существует. Ведь если мы такую «трансцендентную реальность» способны помыслить, то уже этот факт сам по себе делает эту реальность имманентной нашему сознанию. Наше «Я», как говорил Фихте, «вбирает в себя весь мир», а значит, ничего за пределами сознания не существует, есть лишь факты сознания и наша способность постигать, исследовать эти факты. Этот ход мысли и лежит в основе философского идеализма.
Далее мы рассмотрим, как философы пытаются обойти эту систему аргументации, насколько им это удается, и как на фоне этой контраргументации можно отстоять правоту идеалистической точки зрения.
Преодоление солипсизма и «экзистенциального одиночества». Критика интуитивизма. «Метафора пещеры» Платона как образ решения проблемы статуса трансцендентного предмета
Стандартный аргумент против идеализма заключается в том, что идеализм, как полагают его противники, неизбежно влечет солипсизм (т.е. точку зрения, что существую лишь «я один»), а также порождает «экзистенциальное одиночество» субъекта-мыслителя – ибо для этого субъекта не существуют не только какие-либо «другие сознания», но также и окружающие его вещи лишаются всякого самобытного бытия (бытия «в себе»), оказываются лишь «элементами опыта» и, по сути, по своему онтологическому статусу не отличаются от предметов, данных субъекту в сновидении или в галлюцинаторном опыте. Часто здесь используют метафору сна – субъект как бы спит наяву, а окружающий мир, вместе со всеми окружающими человека предметами и персонажами, – снится ему, т.е. существует лишь как бессознательная продукция глубинных слоев его души. Мы полагаем, что в принципиальном плане исключить солипсизм и «экзистенциальное одиночество» – не возможно. Мир действительно может быть нашей галлюцинацией или «ясным сновидением» и полностью опровергнуть такую возможность какими-либо аргументами мы не в силах. Единственное, что мы можем здесь сделать – это выяснить, при каких условиях солипсизм все же может быть преодолен, т.е. при каких условиях наши суждения о внеположном статусе данных нам в опыте объектов могут обрести значение истины.
Поскольку нам, очевидно, дан лишь наш собственный опыт, выход за рамки своей ограниченной субъективности возможен лишь в том случае, если хотя бы некоторые элементы этого опыта обладают надындивидуальным статусом – либо, существуя в моем сознании, одновременно обладают некой формой «самобытного бытия», т.е. существуют не только «для меня», как предметы эксклюзивные лишь для моего сознания, но существуют и «сами для себя», как некие «вещи существующие сами по себе», или же, не обладая «самобытным бытием», тем не менее, существуют как некие интерсубъективные предметы, т.е. обладают способностью проявляться не только в моем опыте, но и коррелятивно (взаимосогласованно) проявляться в опыте других субъектов.
С точки зрения последовательного идеализма, сама идея «объективной реальности» или «материального мира» может быть лишь следствием анализа состава наличного опыта. Чем принципиально отличается опыт, данный нам в сновидении или в галлюцинаторном переживании, от опыта восприятия окружающего нас мира «наяву»? Специфика опыта «яви» видится в том, что этот опыт более упорядочен, регулярен (предметы сохраняют свои основные свойства во времени и пространстве), а также в том, что предметы этого опыта оказывают сопротивление нашей воле – и именно поэтому мыслятся нами как существующие «сами по себе», а не как продукты нашего собственного сознания. Эти две идеи – регулярность и сопротивление воле – и образуют, как представляется, идею «материи», или «объективной реальности».
Однако, для того, чтобы образовать идею «другого Я», а также связанную с ним идею «интерсубъективности» (скоррелированной данности предмета сразу нескольким познающим субъектам) – этого не достаточно. Здесь я апеллирую непосредственно к идее чего-то запредельного по отношению к моему сознанию, к предмету, который обладает поистине надындивидуальным статусом. Однако если все, что мы можем помыслить, – есть лишь данности нашего опыта, то содержательно помыслить нечто трансцендентное нашему сознанию мы можем лишь в том случае, если это трансцендентное как-то дано в опыте и, следовательно, имманентно нашему сознанию. Таким образом, если идея трансцендентного действительно имеет в виду то содержание, которое в ней подразумевается, т.е. сам трансцендентный предмет, то эта идея может быть лишь продуктом прямого доступа субъекта к чему-то поистине трансцендентному, а значит, и, одновременно, имманентному, нашему сознанию. В самом деле, идея трансцендентного, именно как идея моего сознания, должна быть имманентна моему сознанию – ибо я эту идею непосредственно мыслю. Но по своему содержанию она указывает за пределы сознания, как бы говорит сама о себе: «я не есть только идея, я есть сама вещь». Таким образом, идея трансцендентного должна быть парадоксальным образом и имманентна, и трансцендентна по отношению к нашему сознанию. Как это возможно, как совместить в одном объекте и имманентность, и трансцендентность?
Простейший способ решения этой проблемы, который, собственно, широко и использует современная философия, заключается в переопределении смысла понятия «сознание». Вместо того, чтобы понимать сознание как «интегральный опыт» (что предполагает включенность в состав сознания всех данных в опыте содержаний – мы, с этой точки зрения, буквально «видим внутренность собственного сознания»), мы можем определить сознание не как «опыт», а лишь как «форму данности предметов опыта», или как «систему отношений между элементами опыта» или, наконец, как «сцену», на которой нам даны предметы нашего опыта. Смысл этих определений в том, что мы всевозможными способами исключаем из состава сознания сами предметы опыта – они уже не есть «составные части» индивидуального сознания (по принципу – «я и есть данный мне опыт»), но есть лишь то, что «дано» сознанию, то, что противостоит «Я» как объект – субъекту. В этом случае элементы опыта, поскольку они уже не есть части моего сознания, вполне можно истолковать как «сами вещи», т.е. как те самые «трансцендентные предметы», возможность помыслить которые мы и пытаемся объяснить. Здесь эта проблема решается элементарно – я имею идею трансцендентного предмета потому, что сам этот трансцендентный предмет непосредственно дан мне «в подлиннике» – именно в качестве внеположного по отношению к сознанию или к познающему «Я» предмета.
Этот способ решения проблемы возможности мыслимости трансцендентного предмета известен в философии как интуитивизм или неореализм. Родоначальником этой идеи был Анри Бергсон, который впервые изложил эти идеи в книге «Материя и память» в 1897 году [1]. В России родоначальником интуитивизма был Н. О. Лосский [2], наиболее видным представителем – С. Л. Франк [3]. По сути, и феноменологию Гуссерля (особенно в ранней ее версии) и «фундаментальную онтологию» Хайдеггера – следует отнести к этому же типу интуитивистских философских систем.
В интуитивистских системах (например, у Бергсона, Лосского) акцент, прежде всего, делается на возможности прямого доступа «к самим вещам» уже на уровне чувственного восприятия (хотя, по Лосскому, мышление также есть форма прямого доступа к реальности). Мы, с этой точки зрения, видим не образы «внутри нашей головы» – но «сами вещи в подлиннике». Таким образом, отвергается «репрезентативная» теория восприятия (созданная еще в 17 веке Декартом и Локком), утверждающая опосредованный характер любых форм чувственного восприятия. Сильная сторона «репрезентативной» теории восприятия видится в том, что эта теория непосредственно опирается на результаты научных исследований в области физиологии и психологии восприятия. С позиции физиологической теории зрения, мы видим не саму вещь, но субъективный образ, порожденный сложным, многоэтапным процессом преобразования информации в зрительном анализаторе. Непосредственно от вещи в периферическую зрительную систему (сетчатку глаза) попадает поток отраженных от нее фотонов. Этот поток порождает реакцию в виде совокупности разрядов светочувствительных клеток сетчатки (палочек и колбочек), и эти разряды, опосредованно, через ганглиозные клетки сетчатки, по зрительному тракту направляются в латеральные коленчатые тела таламуса, а затем, через зрительную радиацию (пучки волокон белого вещества больших полушарий переднего мозга) попадают в затылочную долю коры больших полушарий (поле 17, по Бродману) где, как полагают физиологи, и возникает зрительный образ примерно через 200 мсек. после начала сенсорной стимуляции.
Аналогичным образом функционируют и другие сенсорные модальности: ни один из органов чувств, с точки зрения физиологии и психологии, не дает нам прямого доступа «к самим вещам». Везде мы имеем дело с репрезентациями, построенными нашим мозгом на основе информации, полученной от соответствующих сенсорных рецепторов. Причем исследования показывают, что процесс восприятия устроен весьма сложно, он не является пассивным отображением в сознании состояния стимуляции периферических рецепторов. В каждом случае мозг решает сложную задачу по «реконструкции» облика предмета на основе весьма неполной и неопределенной сенсорной информации. В случае зрительного восприятия наша зрительная система решает т.н. «обратную задачу рассеяния» – задачу восстановления формы мишени на основе анализа пучка рассеянных на этой мишени фотонов. С точки зрения математики, эта задача квалифицируется как «некорректно поставленная», т.е. исходные данные (информация, содержащаяся в рассеянном свете) не достаточны для того, чтобы однозначно восстановить свойства рассеивающей свет мишени. Для однозначной интерпретации сенсорных данных необходимо использование априорной информации. Иными словами, для того, чтобы правильно увидеть предмет, необходимо заранее (на основе прошлого опыта) представлять, в общих чертах, как вообще устроены и выглядят предметы данного класса. Если априорная информация не соответствует действительность – возникают иллюзии восприятия, что и является доказательством недостаточности интегральной сенсорной стимуляции для однозначного решения познавательной задачи.
Все сказанное показывает, что репрезентативная теория восприятия хорошо научно обоснована и, по сути, является однозначным следствием твердо установленных научных фактов в области физиологии и психологии восприятия. Почему же тогда интуитивизм отвергает идею опосредованности восприятия и настаивает на прямом характере «схватывания» «самих вещей» в акте чувственного восприятия? Общую причину мы уже указали выше: это необходимость преодоления солипсизма и «экзистенциального одиночества» субъекта. Более конкретная аргументация основана на внутренней противоречивости Декарто-Локковской теории познания, предполагающей опосредованность восприятия и производность (у Локка) мышления от чувственного материала, полученного в восприятии. Фактически, это аристотелевская схема процесса познания: человек – есть «чистая доска» в момент рождения, чувственные восприятия заполняют эту «доску» конкретным материалом – перцептивными образами, а мышление занимается «вторичной переработкой» данных органов чувств и, т.о. оказывается еще в большем «отчуждении» от «самих вещей», по сравнению с восприятием. Таким образом, ни восприятие, ни тем более мышление – не имеют доступа к «самим вещам», а имеют дело лишь с их субъективными репрезентациями.
Тем не менее, репрезентативная теория постулирует существование вещей вне сознания, которые мыслятся как причины, порождающие (не прямо, а через цепочку «посредников») чувственные образы, а значит, в конечном итоге, и содержание нашего мышления. Достаточно очевидна внутренняя противоречивость данной конструкции: здесь постулируемая онтология явно противоречит теории познания. Последняя утверждает, что все, что мы можем знать – есть «внутреннее содержание» нашего собственного сознания. Однако тут же полагается, что мы можем знать и еще нечто сверх содержимого сознания – а именно, то, что вне сознания существуют «сами вещи», порождающие опосредованным путем чувственные образы и идеи в сознании. Если мы знаем лишь содержимое собственного сознания, то выяснить каковы же «сами вещи» вне сознания мы, очевидно, принципиально не способны. Это убедительно продемонстрировал И. Кант в своей «трансцендентальной эстетике». Зная лишь следствия неких внешних причин, невозможно однозначно восстановить сами эти причины, ибо одно и то же следствие может порождаться множеством самых разнообразных причин. Отсюда абсолютная непознаваемость кантовской «вещи в себе». Однако можно пойти и дальше и, вслед за Фихте, признать немыслимость и самой «вещи в себе» как таковой – даже в качестве чего-то содержательно неизвестного. Ведь, как уже отмечалось, пытаясь помыслить «саму вещь» мы, по сути, пытаемся выработать такую мысль, которая отрицает свою принадлежность миру мыслей, что, очевидно, противоречиво. Интуитивизм как бы героическим усилием «разрубает» это противоречие, посредством отрицания опосредованного характера чувственного восприятия.
Однако, принимая точку зрения интуитивизма, мы неизбежно вступаем в конфликт с физиологией и психологией восприятия, которые недвусмысленно указывают нам на истинность именно репрезентативной теории чувственного восприятия. Основоположники интуитивизма – А. Бергсон, Н. О. Лосский, были явно озабочены этой проблемой. Однако ответ, который они давали на вопрос, касающийся роли органов чувств и мозга в возникновении чувственного опыта, вряд ли можно считать убедительным. Они, по сути, предлагали свести функцию физиологического аппарата восприятия к обеспечению направленности внимания на исследуемый объект, а также к функции констатации различных чувственно схватываемых свойств объекта, таких, как сходство, различие, отнесение к предметной категории и т. п. Все это явно противоречит данным физиологии и психологии восприятия, которые убедительно показывают активную роль перцептивной системы в построении самого содержания чувственного образа. Мы знаем, также, что вполне полноценные чувственные образы, также как и отдельные чувственные качества, могут быть актуализированы в сознании и в отсутствие «объективного» предмета восприятия. В сновидении, в галлюцинаторный видениях, при электрической стимуляции зрительных нервов и зрительной коры, – появляются вполне полноценные ощущения (например, «фосфены» – ощущения вспышек света, при электрической стимуляции зрительного нерва или зрительной коры) и даже полноценные предметные зрительные образы без наличного «внеположного» по отношению к мозгу и сознанию предмета восприятия.
Наше сознание в этих случаях работает в автономном режиме как «генератор» чувственного опыта. О каком схватывании внеположного предмета, например, в случае истинных галлюцинаций (которые «спроецированы» во внешний мир, в отличие от псевдогаллюцинаций, и нередко, неотличимы от «реальных» предметов чувственного опыта, способны с ними взаимодействовать, закрывать собой «реальные» предметы обзора) может идти речь, если нет самого предмета схватывания? Трудно допустить, что режим «генерации» чувственных образов в отсутствие внешнего объекта восприятия, существует лишь для того, чтобы развлечь нас ночными сновидениями или для того, чтобы запугивать психических больных галлюцинациями. Скорее всего – сны и галлюцинации и, тем более артифицированные (вызванные электрической стимуляцией нервной системы) ощущения, – есть следствие работы того же механизма, который производит обычные «дневные» чувственные образы. В этом случае можно утверждать, что наше обычное «восприятие внешнего мира» – есть, по сути, тот же сон наяву, но в гораздо большей степени, чем ночной сон, контролируемый внешней сенсорной стимуляцией.
Справедливости ради нужно заметить, что были попытки построения психологической теории зрительного восприятия, близкие по духу к интуитивизму. Речь, прежде всего, идет об «экологической теории зрительного восприятия» Дж. Гибсона [4]. Однако и Гибсон не решился утверждать, что мы «видим сами вещи». Непосредственный предмет видения, по Гибсону, – это «световой поток», из которого субъект непосредственно (путем выделения инвариант) извлекает информацию о предметах восприятия, т.е., фактически, Гибсон отрицал лишь наличие «внутренних когнитивных механизмов» переработки сенсорной информации, что отнюдь не эквивалентно теории «прямого схватывания» реальности в чувственном восприятии. Все же, генеральное направление современной психологии восприятия – когнитивная психология, – строится на основе репрезентативной модели, в основу которой кладется «компьютерная метафора»: поступающая сенсорная информация, по представлением когнитивных психологов, подвергается сложной, многоэтапной обработке в различных отделах мозга, и результатом этого процесса является перцептивный образ, рассматриваемый именно в качестве внутренней (субъективной) «репрезентации» окружающей нас «объективной действительности».
Если на ранних этапах развития интуитивизма создатели данной парадигмы пытались как-то согласовать интуитивистскую теорию восприятия с данными научной физиологии и психологии восприятия, то современный интуитивизм, как правило, вовсе игнорирует данную проблему. И это не случайно. Ранний интуитивизм, по сути, носил не вполне последовательный характер, и эта непоследовательность проявлялась в стремлении согласовать новое философское видение восприятия с данными естественных наук. Однако вскоре стало ясно, что если мы принимаем концепцию «прямого схватывания реальности» в чувственном восприятии, то мы не можем сохранить представление об «онтологичности» научной картины мира, т.е. сохранить представление, что то, что изображает наука (например, физика) есть некие реальные, объективно существующие вне нас предметы.
Действительно, современная научная картина мира отнюдь не является простым повторением того, что нам дано в чувственном восприятии. Чувственно мне даны твердые, сплошные, окрашенные предметы: стол, стул, стены, компьютер и т. п. Наука же утверждает, что эти объекты отнюдь не сплошные, но состоят из отдельных дискретных единиц – атомов, разделенных значительными промежутками пустоты, и «скрепленных» друг с другом лишь силовыми связями. Более того, сами атомы на 99,9% состоят из пустоты. Наука утверждает, что не существует цвета, как объективно существующего, присущего самим вещам качества. Объективно существуют лишь длины отраженных от предмета электромагнитных волн, воздействие которых на соответствующие, настроенные на эти волны, рецепторы в глазе (колбочки) порождает, в конечном итоге, ощущение цвета, которое, по сути, есть как бы данное субъекту «кодовое обозначение» определенного интервала длин электромагнитных волн. С точки зрения науки (физики, физиологии), объективно нет ни запахов, ни вкусов – все это лишь субъективные символы, отображающие в нашем сознании определенную геометрическую форму молекул тестируемого органами чувств вещества.
Таким образом, даже с точки зрения классической физики, мир сам по себе отнюдь не таков, каким мы его видим: прежде всего, в нем нет чувственных качеств. Любым качественным различиям в восприятии, наука сопоставляет лишь количественные различия в материальном субстрате. По Декарту, материя – есть не что иное, как «протяженность и движение». Если мы вглядимся в фундаментальные уравнения современной физики (уравнения Ньютона, Шрёдингера, Эйнштейна), то мы увидим, что они в точности соответствуют парадигме Декарта – в качестве параметров уравнения содержат в себе лишь пространственные координаты и время, а также первые и вторые производные от функций, зависящих также от координат и времени, а также числовые коэффициенты, которые, по сути, тоже имеют динамический смысл (масса – как мера инертности и т.п.). По сути, современная физика, особенно если учесть тенденцию к геометрической интерпретации фундаментальных силовых взаимодействий, представляет собой как бы расширенную геометрию, в которой к пространственным измерениям добавлено временное измерение (Дж. Уилер даже определял физику как «геометродинамику»). Все, что не вписывается в эту «геометродинамическую» парадигму, – объявляется чем-то субъективным, существующим лишь в сознании познающего субъекта.
Поскольку в сознании явно есть «качества» (квалии) – которые объявляются несуществующими в природе, то отсюда уже следует невозможность истолкования сознания как чего-то производного от материи. Как материя может породить качества, если она сама по себе бескачественна? Но пока мы отложим обсуждение психофизической проблемы (проблемы отношения материи и сознания) до последней главы этой работы, и продолжим анализ научной картины мира в плане степени ее несоответствия чувственно-воспринимаемой реальности.
Если в классической физике еще сохраняется какой – то элемент наглядности: хотя отрицается объективный статус «вторичных качеств» (цвет, вкус, запах, тепло и т.п.), но, по крайней мере, сохраняется представление об объективном характере «первичных качеств», т.е. геометрических, динамических и вообще любых количественных характеристик окружающих нас вещей, то в неклассической квантово-релятивистской физике – и этот остаток наглядности полностью утрачивается. С точки зрения теории относительности, пространственные и временные интервалы между вещами и событиями не являются объективными характеристиками «самих вещей». Объективно существуют лишь абстрактные «пространственно-временные интервалы», вычисляемые как квадратичные формы от разницы пространственных и временных координат событий. Причем квадрат разности временных координат событий входит в эту квадратичную форму со знаком минус и, т.о., пространственно-временной континуум, в котором «размещаются» события, рассматриваемый как линейное векторное пространство, оказывается изоморфным по своим метрическим свойствам линейному векторному пространству комплексных чисел (имеющих три действительные компоненты и одну мнимую – временное измерение соответствует мнимой компоненте). Особенность линейного пространства комплексных чисел – в его абсолютной ненаглядности. В этом пространстве, например, существуют ненулевые векторы (имеющие ненулевые проекции на различные координатные оси), но, при этом, имеющие тождественно равную нулю длину (т.н. «изотропные векторы» – изображающие траектории, по которым в пространстве-времени распространяются световые сигналы). Угол же между любым неизотропным (внутри светового конуса) и изотропным вектором – всегда равен в этой метрике бесконечности [16]. Воспринимаемые нами пространственные и временные интервалы в этой теории трактуются как проекции единого пространственно-временного континуума на пространственную и временную систему отсчета конкретного наблюдателя. Эти проекции зависят от относительных скоростей наблюдателей и, таким образом, единый пространственно-временной интервал распадается на пространственную и временную компоненту для каждого наблюдателя специфическим образом – в зависимости от состояния относительного движения этого наблюдателя. Поэтому интервал, чисто пространственный или чисто временной для одного наблюдателя, превращается в пространственно-временной для другого наблюдателя (т.е. как бы имеет место частичное превращение пространства во время, а времени – в пространство). Таким образом, с точки зрения релятивистской физики, даже «первичные» – геометрические и динамические свойства (а также и масса) – не являются объективными характеристика вещей – т.к. они не являются инвариантными по отношению к выбору системы отсчета, в которой эти свойства измеряются. Вместо них появляются новые инварианты (пространственно-временные интервалы), которые, однако лишены всякого наглядного смысла, есть лишь математическая абстракция.
Квантовая механика, если понимать ее как онтологически состоятельную теорию, изображающую «истинное» положение дел в мире, буквально утверждает, что все материальные частицы – суть волны. Все состоит из волн. Но непосредственное наблюдение за траекторией движения любой элементарной частицы (например, наблюдение движения заряженной частицы в камере Вильсона) показывает, что она движется по вполне определенной классической траектории, т.е., показывает, что она является корпускулой, а отнюдь не волной (которая, в отличие от корпускулы, движется сразу по всем возможным траекториям). Волновые же свойства частиц проявляются в лишь том случае, если у нас нет возможности непрерывно наблюдать за движением частицы. Если истиной является тезис, что всякая частица – есть волна, и что она движется сразу во всех направлениях, как любая волна, а мы, однако, видим ее всегда как классический объект, осуществляющий лишь одно из возможных движений по конкретной траектории, то это означает, видимо, что мы просто видим не то, что есть на самом деле – видим как бы лишь некий «классический срез» или «проекцию» гораздо более сложно устроенной квантовой реальности, а специфику этого «среза» определяет, как можно предположить, именно работа нашего сознания (см. об этом подробнее в 6 главе данной работы).
Таким образом, мы видим, что обыденная реальность, данная нам в чувственном восприятии, не только не совпадает с научной картиной мира, но по сути даже ей не изоморфна (не является ее взаимно-однозначным отображением). Мы видим лишь некий аспект, «срез» или «проекцию» научно постигаемой реальности, причем видим в некой субъективной (пространственно-временно-качественной) репрезентации. Отсюда следует, что обе эти картины мира – и чувственно-воспринимаемая, и научно-постигаемая, не могут быть одновременно истинными. Если истинна научная картина мира, то чувственная картина – ложна, в том смысле, что она является лишь неполным, опосредованным, односторонним изображением (проекцией) некой, по сути даже невообразимой (но вполне мыслимой посредством математических формул), и гораздо более содержательно богатой и сложно устроенной истинной «объективной реальности». Если же, как настаивают интуитивисты, «мы видим сами вещи», то вещи должны быть именно такими, какими мы их видим. Тогда именно чувственное восприятие дает нам истинное изображение реальности. (А. Бергсон прямо указывал, что «материя совпадает с чистым восприятием», она «абсолютно такова, как кажется» и, следовательно, «было бы напрасно придавать мозговому веществу способность порождать представления» [1, с. 202—203]). Но, в таком случае, научная картина мира должна быть квалифицирована как ложная. Это означает, по меньшей мере, что все специфические объекты науки (атомы, волны, элементарные частицы и т.п.), поскольку они не даны в восприятии, существуют лишь как мысленные конструкции в головах ученых, придумавших эти конструкции. (Физические объекты существуют лишь «в головах» физиков – и больше нигде). Научная картина мира здесь как бы «надстраивается» над подлинным бытием (данным нам в восприятии) и, с этой точки зрения, само ее существование оправдано лишь чисто прагматическими целями – эта картина призвана упорядочить наш чувственный опыт, связать его в единое логическое целое, что позволяет нам, в конечном итоге, предсказывать одни чувственные факты на основе других чувственных фактов. Наука, с этой точки зрения, поскольку она лишена онтологического содержания (не есть описание чего-то реально существующего), приравнивается в этом своем статусе к любой другой альтернативной картине мира (мистической, мифологической, религиозной). Преимущество науки можно усмотреть лишь в удобстве ее использования – она позволяет максимально сократить число первопринципов, описывающих структуру значимых для нас связей в опытно данной нам реальности (позволяет, например, свести всю классическую механику к одному динамическому уравнению) и, т.о., обеспечивает «экономию мышления» (по Э. Маху).
Именно такое понимание науки – как некой условной, лишенной онтологического содержания модели реального чувственно-постигаемого мира, по сути, и преобладает в современной философии. Отсюда вытекает, с одной стороны, возможность игнорировать научные теории (например, физиологическую теорию восприятия), а с другой – трактовать науку как форму культуры, которая находится в одном ряду с религией, мифологией, художественной литературой, и исследовать ее в контексте культурно-исторической динамики любых других культурных образований.
Как нам представляется, такое понимание науки в рамках интуитивизма, противоречит самому смыслу научной деятельности, как поиску объективной истины, ведет к неизбежной релятивизации и принижению значения научного знания. С этих позиций, например, трудно понять, почему целые разделы науки, (геометрия, механика и т.п.) могут сохранять внутреннее единство и устойчивость во времени, и почему наука обладает таким огромным прогностическим потенциалом – несмотря на то, что с интуитивистской точки зрения она никакого отношения к подлинной реальности не имеет. Здесь объективность научного знания незаслуженно приносится в жертву весьма предвзятой и, по сути, весьма уязвимой для критики интуитивистской теории «прямого восприятия реальности».
Уязвимость же интуитивизма вытекает из простейших аргументов, известных еще античным скептикам. Суть этих аргументов в том, что «объективность» чувственной картины мира вступает в явное противоречие с относительностью нашего восприятия. Существование иллюзий восприятия, тот факт, что восприятие качеств (например, цвета, вкуса, запаха, холода, тепла) зависит от состояния наших органов чувств и организма в целом (человек с желтухой, все видит желтым, с воспаление глаза – красным, у беременных изменены вкусовые ощущения, повреждение периферических нервов не позволяет чувствовать тепло или холод и т.п.), – явно говорит не в пользу теории «прямого восприятия». Если мы видим «сами вещи», то вещи должны быть именно таковы, какими мы их видим. А это означает, что если меняется восприятие – то должна меняться и сама вещь. Я надавливаю пальцем на глазное яблоко – и вижу, что вещь, на которую я смотрел, раздвоилась. Если буквально следовать интуитивизму, нужно признать, что надавливание на глаз порождает удвоение реальной вещи. Почему же другой человек в этом случае не видит эту вещь раздвоенной? Почему розовые очки окрашивают видимые вещи в розовый цвет и почему это окрашивание не видят другие? Почему очки корректируют зрение? Все эти вопросы, элементарно разрешимые в рамках репрезентативной теории восприятия, превращаются в неразрешимые загадки с точки зрения интуитивизма. Стоит ли в таком случае отказываться от репрезентативной теории восприятия? Мы полагаем, что не стоит. Как только мы возвращаемся к репрезентативной модели – все встает на свои места. Физиологические и психологические теории восприятия обретают свой истинный смысл, а наука обретает статус «истинного изображения реальности».
Однако остается та самая проблема «преодоления солипсизма и экзистенциального одиночества», попытки решения которой в конечном итоге и породили интуитивизм. Возможно ли какое-то другое конструктивное решение этой проблемы? Если мы принимаем репрезентативную теорию восприятия и признаем, что мы видим не «сами вещи», а лишь субъективные образы вещей в нашем сознании, то, очевидно, преодолеть солипсизм и «экзистенциональное одиночество» возможно лишь постулировав наличие прямого доступа «к самим вещам» на уровне какой-то иной познавательной способности. Помимо восприятия, другой нашей познавательной способностью является мышление. Логично предположить, что если выход к «самим вещам», в силу опосредованности восприятия, не возможен, то он, однако, возможен на уровне интеллектуального постижения этих вещей. Иными словами, вместо формулы интуитивизма: «мы видим сами вещи, но мыслим лишь собственные мысли, производные от восприятий», мы предлагаем формулу: «мы видим не вещи, но образы вещей в нашем приватном чувственном сознании, но мыслим сами вещи в подлиннике».
К такому выводу нас подталкивает и сравнительный анализ гносеологических свойств восприятия и мышления. Особенность восприятия в его приватности, невозможности передать другому в точности содержимое моего чувственного опыта. Только я лично знаю, как выглядит «красное» в моем восприятии, как именно я чувствую боль, музыку, тепло и холод. Только я знаю, что означает быть на чувственном уровне мною. Такая приватность чувственного внутреннего мира, тем не менее, не лишает нас возможности обмениваться мыслями, адекватно понимать друг друга. Это возможно, очевидно, потому, что содержание мысли – смысл – есть инварианта, «чистая информация», содержание которой абсолютно не зависит от набора квалий, посредством которых данная информация представлена в нашем чувственном опыте. Эта инварианта одинакова для всех субъектов восприятия, как бы они ни воспринимали окружающий мир. Мы воспринимаем окружающий мир, как вполне возможно допустить, по-разному, но способны мыслить этот мир вполне одинаково, что и делает возможным взаимопонимание, согласие в содержании мысли. Знаменательно, что там, где мышление наиболее очищено от чувственной компоненты, например в математике, в логике, мы способны достигать абсолютного согласия – доказательства теорем, полученные одним математиком, как правило, достаточно быстро принимаются (если они истинные) всем математическим сообществом. Здесь достигается подлинная общезначимость мысли, онтологически указывающая на нечто поистине всеобщее, надындивидуальное, лежащее в основе нашего мышления.
Таким образом, если наше сознание не является абсолютно замкнутым в себе и, следовательно, имеет прямой доступ к внеположной реальности, то этот прямой доступ «к самим вещам», видимо, имеет место не на уровне чувственного восприятия, как полагают интуитивисты, а на уровне мышления. Иными словами, мы чувственно воспринимаем не «сами вещи», а их субъективные репрезентации в нашем чувственном сознании, однако, при этом, мы мыслим «сами вещи» – т.е. мышление и есть искомый механизм прямого доступа к подлинной внеположной реальности. Ясно, что в таком случае «внеположная» сознанию реальность является внешней (трансцендентной) лишь по отношению к чувственному восприятию. На уровне же мышления она имманентна нашему индивидуальному сознанию, которое, таким образом оказывается разомкнутым на уровне предметов мышления, «укорененным» в некой надындивидуальной реальности. Эту умопостигаемую реальность мы определяем как «подлинное бытие», «объективную реальность», «подлинный внешний мир».
Вместе с тем, очевидно, что мыслить мы можем лишь мысли, идеи, некие «умопостигаемые объекты», которые, в отличие от чувственных объектов, лишены качественности, пространственности и даже временности (как мы покажем ниже). Если, при этом, мы мыслим и «сами вещи», то, очевидно, это означает, что «истинные вещи» и есть мысли. Т.е. бытие, открываемое нашему мышлению, есть бытие самого содержимого этого мышления – мы приходим, таким образом, к парменидовой идее тождества бытия и мышления: «одно и то же мысль и то, о чем она существует» (т.е. мысль о предмете тождественна предмету мысли). Если бы это было не так, то, очевидно, помыслить бытие было бы невозможно (поскольку мы можем мыслить только мысли). Таким образом, принятие тезиса тождества бытия и мышления совершенно необходимо для того, чтобы мышление о бытии (онтология) вообще было возможно.
Предлагаемое нами решение проблемы преодоления солипсизма и «экзистенциального одиночества» посредством постулирования прямого доступа к реальности на уровне мышления, очевидно, есть не что иное, как возврат к платоновской метафоре «пещеры» – как к глобальной парадигме, объясняющей отношение чувственного и интеллектуального познания к объективной реальности. На уровне чувственного восприятия, мы как бы замкнуты в своем приватном «субъективном мирке» и видим лишь «тени на стене пещеры» – субъективные репрезентации истинной внеположной реальности, данной нам в этих репрезентациях в существенной содержательной неполноте. Мы видим лишь некий, обусловленный устройством нашего сознания и когнитивного аппарата, а также условиями восприятия, «срез» гораздо более богатой и сложной «подлинной реальности», причем этот «срез» дан нам в «условной», как бы «закодированной форме» – его можно уподобить прочтению браузером компьютерного файла и созданию на его основе изображения на экране монитора. Между файлом и изображением существует изоморфизм, но отсутствует какое-либо наглядное сходство. Также и чувственный образ изоморфен (или, точнее, гомеоморфен – поскольку содержит не полную информацию о вещи) вещи, но та же самая информация представлена в образе, видимо, в совершенно иной форме, отличной от той, в которой она существует в самой вещи. Однако, на уровне мышления, мы как платоновский мудрец, «оборачиваемся к входу пещеры» – и видим сами прообразы, порождающие «тени на противоположной стене пещеры», т.е. воспринимаем «сами вещи» в их подлинном бытии. Эти подлинные вещи – суть не что иное как аналоги платоновских «эйдосов» – это умопостигаемые, сверхчувственные предметы, нечто, как говорил Платон, «безвидное», «то, что нельзя сжать в руке». Они лишены качественности, пространственности, временности, есть как бы «чистое знание», «чистая информация», лишенная какой-либо чувственной формы представленности.
Вместе с тем, как мы видели выше, именно такими свойствами обладают физические объекты, как их описывает неклассичекая квантово-релятивистская физика. Уже классическая декарто-ньютоновская физика сводила материю к «чистой протяженности», лишая ее, таким образом, чувственно воспринимаемых качеств. Теория относительности лишила физическую реальность пространственности и временности, заменив их абстрактной конструкцией четырехмерного пространства-времени. Квантовая механика лишила физические объекты определенности даже в плане их количественных характеристик. Вне акта наблюдения мы имеем квантовый объект, описываемый волновой функцией, которая задает нам лишь вероятности наблюдения того или иного исхода измерительного эксперимента с данным объектом. Таким образом «вещи» здесь превращаются в «наборы потенцией», они обладают лишь возможностным, а не действительным существованием.
Мы видим, что в неклассической физике реальность превращается в нечто безвидное, эфемерное, подобное бытию мысли, платоновским «эйдосам», а не бытию чувственно воспринимаемых нами «предметов видимого мира». Не случайно одни из создателей квантовой механики Вернер Гейзенберг утверждал, что в современной физике «линия Платона победила линию Демокрита» [5], имея в виду, что объекты квантово-релятивистской физики более похожи на абстрактные «идеальные многогранники» или «эйдосы» Платона, чем на наглядные атомы Демокрита. Далее, в пятой главе мы подробно разовьем эту идею Гейзенберга, и покажем каким образом данная «платоновская» теория познания, основанная на идее прямого доступа к «самим вещам» на уровне мышления (т.е. основанная на идее тождества бытия и мышления), способна прояснить особенности описания реальности в неклассической (квантово-релятивистской) физике.
На пути реализации идеи возможности прямого доступа «к самим вещам» на уровне мышления у нас сразу же возникают два существенных препятствия. Первое препятствие – это существование ошибочных идей, в частности, ошибочных научных теорий. Действительно, если мышление есть прямой доступ к «самим вещам» и, следовательно, мысль о предмете тождественна предмету мысли, то любая мысль должна быть истинной, т.к. истина (по Аристотелю) и есть совпадение мысли и ее предмета. Как тогда возможна какая-либо ложь в мышлении, несоответствие мысли реальности? На наш взгляд ложь возникает по двум, существенно различным причинам. Первая причина носит сугубо онтологический характер и связана с характером умопостигаемого бытия, открывающегося нашему мышлению. Очевидно, что помыслить можно не только то, что существует в нашем физическом мире, но также вполне непротиворечиво возможно помыслить миры с иными, альтернативными физическими свойствами, иными физическими законами. Таким образом, непосредственно открытую нашему мышлению онтологическая реальность можно, в духе Лейбница, характеризовать как «множество всех возможных миров» («Умопостигаемый универсум»). Чувственный мир, открытый нашему восприятию, в соответствие с метафорой «пещеры» Платона, следует понимать как некую согласованную для разных субъектов «проекцию» в их индивидуальные сознания (чувственные приватные «мирки») одного из этих «умопостигаемый миров», непосредственно доступных для нашего мышления. Критерием истины, а, следовательно, и критерием непосредственной бытийной данности в мышлении, очевидно, является закон непротиворечивости. Содержательно помыслить можно любой мир, если он непротиворечив. Чистое мышление, таким образом, имеет дело с миром возможного и способно само по себе, без помощи восприятия, различать только возможное и невозможное (непротиворечивое и противоречивое). Но, однако, мышление не способно априори определить, в каком из возможных умопостигаемых миров мы себя эмпирически (на чувственном уровне) обнаруживаем (т.е. не способно априори различить возможное и действительное). Для решения последний задачи – выяснения, в каком из возможных миров мы чувственно себя обнаруживаем (какой именно «фрагмент» «Умопостигаемого универсума» разворачивается в нашем приватном «чувственном мирке»), – как раз и необходим чувственный опыт. Этим, собственно, и объясняется, почему физику невозможно построить подобно математике на чисто априорной основе, путем дедукции из самоочевидных аксиом. Априори можно построить лишь бесконечное множество «физик возможных миров» с альтернативными физическими свойствами. Но только чувственный опыт позволяет нам выбрать из этого множества миров тот единственный, в котором мы себя на уровне чувственного восприятия обнаруживаем.
Другая причина появления «ложных идей» – несовершенство нашего мышления. В своей мыслительной деятельности мы активно пользуемся языком, который позволяет не только передавать информацию, знания от одного индивида к другому, но и активно используется нами как средство конструирования новых понятийных выражений. Произвольно комбинируя слова, легко построить бессмысленные выражения типа «круглого квадрата». В данном случае нонсенс очевиден. Мы лишь как бы обозначаем в данном понятии задачу для мышления (помыслить нечто одновременно круглое и квадратное), но эта задача явно нереализуема в нашем мышлении. В других случаях нонсенс далеко не очевиден. Потребовалось, например, несколько десятков лет, чтобы показать, что выражение «универсальный алгоритм решения любых диофантовых уравнений» обозначает нечто реально не существующее. Теоремы Курта Гёделя показывают, что задача выяснения непротиворечивости той или иной математической конструкции весьма не тривиальна и абсолютных гарантий в того, что мы в некоторой аксиоматической системе в будущем не столкнемся с противоречиями, не существует. Таким образом, наша способность с помощью комбинирования словесных обозначений строить новые понятия, не до конца вникая в их конкретное содержание, – приводит к тому, что в нашей сфере мышления появляются как бы «квазимыслимые» объекты, представляющие, по сути, несуществующие регионы Умопостигаемого универсума. Причина появления ложного здесь – ограниченная способность нашего мышления к симультанному схватыванию смысла сложных понятийных конструкций, в которых одновременно реализовано большое количество элементов и их логических отношений.
Другое препятствие, с которым сталкивается теория «прямого постижения» реальности в мышлении – это вопрос об онтологическом статусе самих умопостигаемых объектов. Принцип тождества бытия и мышления недвусмысленно указывает на бытийность мысли и ее предмета. Предмет мышления (идея, эйдос) есть, с этой точки зрения, нечто реально существующее, наличное в составе бытия. В этом суть определения платонизма как «реализма», т.е. учения о реальном, объективном статусе существования «мира идей». Последний существует как некий фундаментальный слой реальности, существующий независимо от чего-либо иного, тогда как чувственный мир понимается как нечто производное от «мира идей» – как «проекция» некоторой части этого мира в индивидуальное приватное чувственное восприятие конкретных субъектов.
Именно эта идея «самостоятельной» бытийности мысли представляется многим философам неприемлемой. Первыми последовательными отрицателями реальности «мира идей» были античные стоики, которые ввели понятие «лектон» для обозначения категории смысла (содержания мышления). Лектон у стоиков толковался как некий вид небытия, нечто лишенное самостоятельного бытия, но существующее лишь как система отношений внутри материального бытия (система отношений между субъектом, знаком и обозначаемым). В системах британских эмпириков (Беркли, Юм) смысл, как сверхчувственная онтологическая реальность, отсутствует даже в индивидуальном сознании, а мышление трактуется как процесс манипулирования представлениями, имеющими скорее чувственную, а не сверхчувственную природу. Другие философы, признавая существование смысла как некой сверхчувственной бытийной реальности, тем не менее, ограничивали его существование лишь индивидуальным сознанием, отрицая надындивидуальный статус содержимого мысли.
Таким образом, следующая задача, стоящая перед нами в рамках общего проекта «апологии идеализма» – показать реальную бытийность предмета мысли (смысла), а также обосновать его надындивидуальный статус. Для этого необходимо обратиться к феноменологии сознания, выяснить, путем интроспекции, из каких компонент сознание состоит и какими фундаментальными онтологическими свойствами эти компоненты обладают. Этим вопросом мы займемся в следующей главе.
Феноменология сознания. Смысл как сверхчувственная бытийная компонента сознания
Евгений Михайлович Иванов
В книге исследуется идеалистическое мировоззрение, основанное на идее первичной реальности сознания и вторичности всякой внеположной сознанию реальности. Дано обоснование истинности идеалистической онтологии и гносеологии. Показаны преимущества идеализма над классическим репрезентационизмом и интуитивизмом, а также возможность истолкования с позиций идеализма смысла неклассической квантово-релятивистской научной картины мира и решения с позиций идеализма психофизической проблемы.
Апология идеализма
Евгений Михайлович Иванов
© Евгений Михайлович Иванов, 2016
ISBN 978-5-4483-2545-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Почему идеализм, т.е. воззрение, основанное на идее первичной реальности сознания и вторичности всякой иной, внеположной сознанию реальности, должен быть возрожден и почему он имеет преимущество над всеми другими альтернативными философскими системами – на этот вопрос мы попытаемся ответить в данной работе. В последних двух главах мы также рассмотрим возможность использования идеалистического миропонимания для прояснения смысла современной научной квантово-релятивистской картины мира, а также проясним перспективы использования идеализма как методологии решения психофизической проблемы.
Сознание как интегральный опыт
Начнем с вопроса: что такое сознание. Сознание, с позиции идеализма, естественно определить как совокупный опыт, в той или иной форме (чувственной или внечувственной) данный субъекту (иные подходы к пониманию сознания мы рассмотрим ниже). Такое понимание сознания автоматически ведет нас к признанию приоритетности идеалистического воззрения. Действительно, если сознание есть совокупный опыт, данный субъекту, то следует признать, что сознание, его содержимое – это единственная известная нам форма бытия. Все прочее (если оно вообще существует) – дано через посредство фактов сознания: либо в виде чувственных образов (если мы признаем, что за образами, в качестве их «внешней причины», стоят «сами вещи»), либо в виде смысловых образований (например, когда мы говорим об элементах научной картины мира – атомах, полях, элементарных частицах и т.п.). Действительно, с точки зрения научной психологии и физиологии восприятия, мы видим не «сам предмет», а его сенсорный образ, существующий непосредственно в сознании. Также естественно предположить, что и мыслим мы не «саму вещь», но мысль о вещи. Иными словами – все, что доступно нам в качестве опыта – есть лишь содержимое нашего собственного сознания.
Не верно было бы с этих позиций говорить, подобно Б. Расселу, что мы видим «внутренность собственного мозга», т.к. и мозг и наше тело – как мы их воспринимаем, есть с этой точки зрения лишь образы, существующие внутри нашего собственного сознания. Если нам дано лишь наше собственное сознание, точнее, его содержимое, то предполагать какое-либо иное бытие, внеположное сознанию, по меньшей мере, рискованно, а по сути даже и бессмысленно. Само бытие, как таковое, известно нам лишь как наше собственное бытие – мы знаем, что «что-то существует», поскольку существуем мы сами. Если я не существую, то для меня вообще ничего не существует. Следовательно, всякое «инобытие» дано мне лишь в формах моего собственного бытия.
Мысль о «внеположном сознанию бытии», если она осмысленна, имеет конкретное содержание, должна каким-то образом «указывать» на свой предмет, должна как-то «иметь его в виду». Если я мыслю «сам стол» (в качестве внеположной сознанию реальности), то мысль о столе должна как-то указывать именно на этот внеположный мне стол, как-то иметь его в виду в качестве своего предмета. Но как такое интенциональное указание на предмет мысли возможно, если предмет мыслится именно как внеположный сознанию, а значит внеположный по отношению ко всякому возможному опыту? Предметом указания, «имения в виду» может быть, очевидно, лишь то, что как-то присутствует в опыте, как-то дано субъекту, а дано оно может быть лишь как факт сознания. Мы не можем «выпрыгнуть» за пределы собственного сознания, «выпрыгнуть» за рамки возможного опыта к «самой внеположной вещи», так, чтобы эта вещь, при этом, не стала частью нашего опыта. Как только мы помыслили вещь в качестве «трансцендентного предмета», она в тот же миг стала частью нашего опыта, т.е. стала чем-то существующим в пределах сознания, поскольку мысль становится содержательной только через указание на свой предмет, на то, что в этой мысли мыслится. Таким образом, «внеположный предмет», с т.з. понимания сознания как «интегрального опыта», есть некий нонсенс, нечто подобное «круглому квадрату». Замысливая «трансцендентный предмет», мы тем самым пытаемся генерировать мысль, которая отрицает собственную принадлежность к классу мыслей, т.е. утверждает сама о себе: «я не мысль», что противоречиво. Все, что мы мыслим – это наши мысли, все, что воспринимаем – наши сенсорные образы. Если это так, то нужно признать, что никакой «трансцендентной» в абсолютном смысле реальности, полностью пребывающей за пределами нашего сознания, не существует. Ведь если мы такую «трансцендентную реальность» способны помыслить, то уже этот факт сам по себе делает эту реальность имманентной нашему сознанию. Наше «Я», как говорил Фихте, «вбирает в себя весь мир», а значит, ничего за пределами сознания не существует, есть лишь факты сознания и наша способность постигать, исследовать эти факты. Этот ход мысли и лежит в основе философского идеализма.
Далее мы рассмотрим, как философы пытаются обойти эту систему аргументации, насколько им это удается, и как на фоне этой контраргументации можно отстоять правоту идеалистической точки зрения.
Преодоление солипсизма и «экзистенциального одиночества». Критика интуитивизма. «Метафора пещеры» Платона как образ решения проблемы статуса трансцендентного предмета
Стандартный аргумент против идеализма заключается в том, что идеализм, как полагают его противники, неизбежно влечет солипсизм (т.е. точку зрения, что существую лишь «я один»), а также порождает «экзистенциальное одиночество» субъекта-мыслителя – ибо для этого субъекта не существуют не только какие-либо «другие сознания», но также и окружающие его вещи лишаются всякого самобытного бытия (бытия «в себе»), оказываются лишь «элементами опыта» и, по сути, по своему онтологическому статусу не отличаются от предметов, данных субъекту в сновидении или в галлюцинаторном опыте. Часто здесь используют метафору сна – субъект как бы спит наяву, а окружающий мир, вместе со всеми окружающими человека предметами и персонажами, – снится ему, т.е. существует лишь как бессознательная продукция глубинных слоев его души. Мы полагаем, что в принципиальном плане исключить солипсизм и «экзистенциальное одиночество» – не возможно. Мир действительно может быть нашей галлюцинацией или «ясным сновидением» и полностью опровергнуть такую возможность какими-либо аргументами мы не в силах. Единственное, что мы можем здесь сделать – это выяснить, при каких условиях солипсизм все же может быть преодолен, т.е. при каких условиях наши суждения о внеположном статусе данных нам в опыте объектов могут обрести значение истины.
Поскольку нам, очевидно, дан лишь наш собственный опыт, выход за рамки своей ограниченной субъективности возможен лишь в том случае, если хотя бы некоторые элементы этого опыта обладают надындивидуальным статусом – либо, существуя в моем сознании, одновременно обладают некой формой «самобытного бытия», т.е. существуют не только «для меня», как предметы эксклюзивные лишь для моего сознания, но существуют и «сами для себя», как некие «вещи существующие сами по себе», или же, не обладая «самобытным бытием», тем не менее, существуют как некие интерсубъективные предметы, т.е. обладают способностью проявляться не только в моем опыте, но и коррелятивно (взаимосогласованно) проявляться в опыте других субъектов.
С точки зрения последовательного идеализма, сама идея «объективной реальности» или «материального мира» может быть лишь следствием анализа состава наличного опыта. Чем принципиально отличается опыт, данный нам в сновидении или в галлюцинаторном переживании, от опыта восприятия окружающего нас мира «наяву»? Специфика опыта «яви» видится в том, что этот опыт более упорядочен, регулярен (предметы сохраняют свои основные свойства во времени и пространстве), а также в том, что предметы этого опыта оказывают сопротивление нашей воле – и именно поэтому мыслятся нами как существующие «сами по себе», а не как продукты нашего собственного сознания. Эти две идеи – регулярность и сопротивление воле – и образуют, как представляется, идею «материи», или «объективной реальности».
Однако, для того, чтобы образовать идею «другого Я», а также связанную с ним идею «интерсубъективности» (скоррелированной данности предмета сразу нескольким познающим субъектам) – этого не достаточно. Здесь я апеллирую непосредственно к идее чего-то запредельного по отношению к моему сознанию, к предмету, который обладает поистине надындивидуальным статусом. Однако если все, что мы можем помыслить, – есть лишь данности нашего опыта, то содержательно помыслить нечто трансцендентное нашему сознанию мы можем лишь в том случае, если это трансцендентное как-то дано в опыте и, следовательно, имманентно нашему сознанию. Таким образом, если идея трансцендентного действительно имеет в виду то содержание, которое в ней подразумевается, т.е. сам трансцендентный предмет, то эта идея может быть лишь продуктом прямого доступа субъекта к чему-то поистине трансцендентному, а значит, и, одновременно, имманентному, нашему сознанию. В самом деле, идея трансцендентного, именно как идея моего сознания, должна быть имманентна моему сознанию – ибо я эту идею непосредственно мыслю. Но по своему содержанию она указывает за пределы сознания, как бы говорит сама о себе: «я не есть только идея, я есть сама вещь». Таким образом, идея трансцендентного должна быть парадоксальным образом и имманентна, и трансцендентна по отношению к нашему сознанию. Как это возможно, как совместить в одном объекте и имманентность, и трансцендентность?
Простейший способ решения этой проблемы, который, собственно, широко и использует современная философия, заключается в переопределении смысла понятия «сознание». Вместо того, чтобы понимать сознание как «интегральный опыт» (что предполагает включенность в состав сознания всех данных в опыте содержаний – мы, с этой точки зрения, буквально «видим внутренность собственного сознания»), мы можем определить сознание не как «опыт», а лишь как «форму данности предметов опыта», или как «систему отношений между элементами опыта» или, наконец, как «сцену», на которой нам даны предметы нашего опыта. Смысл этих определений в том, что мы всевозможными способами исключаем из состава сознания сами предметы опыта – они уже не есть «составные части» индивидуального сознания (по принципу – «я и есть данный мне опыт»), но есть лишь то, что «дано» сознанию, то, что противостоит «Я» как объект – субъекту. В этом случае элементы опыта, поскольку они уже не есть части моего сознания, вполне можно истолковать как «сами вещи», т.е. как те самые «трансцендентные предметы», возможность помыслить которые мы и пытаемся объяснить. Здесь эта проблема решается элементарно – я имею идею трансцендентного предмета потому, что сам этот трансцендентный предмет непосредственно дан мне «в подлиннике» – именно в качестве внеположного по отношению к сознанию или к познающему «Я» предмета.
Этот способ решения проблемы возможности мыслимости трансцендентного предмета известен в философии как интуитивизм или неореализм. Родоначальником этой идеи был Анри Бергсон, который впервые изложил эти идеи в книге «Материя и память» в 1897 году [1]. В России родоначальником интуитивизма был Н. О. Лосский [2], наиболее видным представителем – С. Л. Франк [3]. По сути, и феноменологию Гуссерля (особенно в ранней ее версии) и «фундаментальную онтологию» Хайдеггера – следует отнести к этому же типу интуитивистских философских систем.
В интуитивистских системах (например, у Бергсона, Лосского) акцент, прежде всего, делается на возможности прямого доступа «к самим вещам» уже на уровне чувственного восприятия (хотя, по Лосскому, мышление также есть форма прямого доступа к реальности). Мы, с этой точки зрения, видим не образы «внутри нашей головы» – но «сами вещи в подлиннике». Таким образом, отвергается «репрезентативная» теория восприятия (созданная еще в 17 веке Декартом и Локком), утверждающая опосредованный характер любых форм чувственного восприятия. Сильная сторона «репрезентативной» теории восприятия видится в том, что эта теория непосредственно опирается на результаты научных исследований в области физиологии и психологии восприятия. С позиции физиологической теории зрения, мы видим не саму вещь, но субъективный образ, порожденный сложным, многоэтапным процессом преобразования информации в зрительном анализаторе. Непосредственно от вещи в периферическую зрительную систему (сетчатку глаза) попадает поток отраженных от нее фотонов. Этот поток порождает реакцию в виде совокупности разрядов светочувствительных клеток сетчатки (палочек и колбочек), и эти разряды, опосредованно, через ганглиозные клетки сетчатки, по зрительному тракту направляются в латеральные коленчатые тела таламуса, а затем, через зрительную радиацию (пучки волокон белого вещества больших полушарий переднего мозга) попадают в затылочную долю коры больших полушарий (поле 17, по Бродману) где, как полагают физиологи, и возникает зрительный образ примерно через 200 мсек. после начала сенсорной стимуляции.
Аналогичным образом функционируют и другие сенсорные модальности: ни один из органов чувств, с точки зрения физиологии и психологии, не дает нам прямого доступа «к самим вещам». Везде мы имеем дело с репрезентациями, построенными нашим мозгом на основе информации, полученной от соответствующих сенсорных рецепторов. Причем исследования показывают, что процесс восприятия устроен весьма сложно, он не является пассивным отображением в сознании состояния стимуляции периферических рецепторов. В каждом случае мозг решает сложную задачу по «реконструкции» облика предмета на основе весьма неполной и неопределенной сенсорной информации. В случае зрительного восприятия наша зрительная система решает т.н. «обратную задачу рассеяния» – задачу восстановления формы мишени на основе анализа пучка рассеянных на этой мишени фотонов. С точки зрения математики, эта задача квалифицируется как «некорректно поставленная», т.е. исходные данные (информация, содержащаяся в рассеянном свете) не достаточны для того, чтобы однозначно восстановить свойства рассеивающей свет мишени. Для однозначной интерпретации сенсорных данных необходимо использование априорной информации. Иными словами, для того, чтобы правильно увидеть предмет, необходимо заранее (на основе прошлого опыта) представлять, в общих чертах, как вообще устроены и выглядят предметы данного класса. Если априорная информация не соответствует действительность – возникают иллюзии восприятия, что и является доказательством недостаточности интегральной сенсорной стимуляции для однозначного решения познавательной задачи.
Все сказанное показывает, что репрезентативная теория восприятия хорошо научно обоснована и, по сути, является однозначным следствием твердо установленных научных фактов в области физиологии и психологии восприятия. Почему же тогда интуитивизм отвергает идею опосредованности восприятия и настаивает на прямом характере «схватывания» «самих вещей» в акте чувственного восприятия? Общую причину мы уже указали выше: это необходимость преодоления солипсизма и «экзистенциального одиночества» субъекта. Более конкретная аргументация основана на внутренней противоречивости Декарто-Локковской теории познания, предполагающей опосредованность восприятия и производность (у Локка) мышления от чувственного материала, полученного в восприятии. Фактически, это аристотелевская схема процесса познания: человек – есть «чистая доска» в момент рождения, чувственные восприятия заполняют эту «доску» конкретным материалом – перцептивными образами, а мышление занимается «вторичной переработкой» данных органов чувств и, т.о. оказывается еще в большем «отчуждении» от «самих вещей», по сравнению с восприятием. Таким образом, ни восприятие, ни тем более мышление – не имеют доступа к «самим вещам», а имеют дело лишь с их субъективными репрезентациями.
Тем не менее, репрезентативная теория постулирует существование вещей вне сознания, которые мыслятся как причины, порождающие (не прямо, а через цепочку «посредников») чувственные образы, а значит, в конечном итоге, и содержание нашего мышления. Достаточно очевидна внутренняя противоречивость данной конструкции: здесь постулируемая онтология явно противоречит теории познания. Последняя утверждает, что все, что мы можем знать – есть «внутреннее содержание» нашего собственного сознания. Однако тут же полагается, что мы можем знать и еще нечто сверх содержимого сознания – а именно, то, что вне сознания существуют «сами вещи», порождающие опосредованным путем чувственные образы и идеи в сознании. Если мы знаем лишь содержимое собственного сознания, то выяснить каковы же «сами вещи» вне сознания мы, очевидно, принципиально не способны. Это убедительно продемонстрировал И. Кант в своей «трансцендентальной эстетике». Зная лишь следствия неких внешних причин, невозможно однозначно восстановить сами эти причины, ибо одно и то же следствие может порождаться множеством самых разнообразных причин. Отсюда абсолютная непознаваемость кантовской «вещи в себе». Однако можно пойти и дальше и, вслед за Фихте, признать немыслимость и самой «вещи в себе» как таковой – даже в качестве чего-то содержательно неизвестного. Ведь, как уже отмечалось, пытаясь помыслить «саму вещь» мы, по сути, пытаемся выработать такую мысль, которая отрицает свою принадлежность миру мыслей, что, очевидно, противоречиво. Интуитивизм как бы героическим усилием «разрубает» это противоречие, посредством отрицания опосредованного характера чувственного восприятия.
Однако, принимая точку зрения интуитивизма, мы неизбежно вступаем в конфликт с физиологией и психологией восприятия, которые недвусмысленно указывают нам на истинность именно репрезентативной теории чувственного восприятия. Основоположники интуитивизма – А. Бергсон, Н. О. Лосский, были явно озабочены этой проблемой. Однако ответ, который они давали на вопрос, касающийся роли органов чувств и мозга в возникновении чувственного опыта, вряд ли можно считать убедительным. Они, по сути, предлагали свести функцию физиологического аппарата восприятия к обеспечению направленности внимания на исследуемый объект, а также к функции констатации различных чувственно схватываемых свойств объекта, таких, как сходство, различие, отнесение к предметной категории и т. п. Все это явно противоречит данным физиологии и психологии восприятия, которые убедительно показывают активную роль перцептивной системы в построении самого содержания чувственного образа. Мы знаем, также, что вполне полноценные чувственные образы, также как и отдельные чувственные качества, могут быть актуализированы в сознании и в отсутствие «объективного» предмета восприятия. В сновидении, в галлюцинаторный видениях, при электрической стимуляции зрительных нервов и зрительной коры, – появляются вполне полноценные ощущения (например, «фосфены» – ощущения вспышек света, при электрической стимуляции зрительного нерва или зрительной коры) и даже полноценные предметные зрительные образы без наличного «внеположного» по отношению к мозгу и сознанию предмета восприятия.
Наше сознание в этих случаях работает в автономном режиме как «генератор» чувственного опыта. О каком схватывании внеположного предмета, например, в случае истинных галлюцинаций (которые «спроецированы» во внешний мир, в отличие от псевдогаллюцинаций, и нередко, неотличимы от «реальных» предметов чувственного опыта, способны с ними взаимодействовать, закрывать собой «реальные» предметы обзора) может идти речь, если нет самого предмета схватывания? Трудно допустить, что режим «генерации» чувственных образов в отсутствие внешнего объекта восприятия, существует лишь для того, чтобы развлечь нас ночными сновидениями или для того, чтобы запугивать психических больных галлюцинациями. Скорее всего – сны и галлюцинации и, тем более артифицированные (вызванные электрической стимуляцией нервной системы) ощущения, – есть следствие работы того же механизма, который производит обычные «дневные» чувственные образы. В этом случае можно утверждать, что наше обычное «восприятие внешнего мира» – есть, по сути, тот же сон наяву, но в гораздо большей степени, чем ночной сон, контролируемый внешней сенсорной стимуляцией.
Справедливости ради нужно заметить, что были попытки построения психологической теории зрительного восприятия, близкие по духу к интуитивизму. Речь, прежде всего, идет об «экологической теории зрительного восприятия» Дж. Гибсона [4]. Однако и Гибсон не решился утверждать, что мы «видим сами вещи». Непосредственный предмет видения, по Гибсону, – это «световой поток», из которого субъект непосредственно (путем выделения инвариант) извлекает информацию о предметах восприятия, т.е., фактически, Гибсон отрицал лишь наличие «внутренних когнитивных механизмов» переработки сенсорной информации, что отнюдь не эквивалентно теории «прямого схватывания» реальности в чувственном восприятии. Все же, генеральное направление современной психологии восприятия – когнитивная психология, – строится на основе репрезентативной модели, в основу которой кладется «компьютерная метафора»: поступающая сенсорная информация, по представлением когнитивных психологов, подвергается сложной, многоэтапной обработке в различных отделах мозга, и результатом этого процесса является перцептивный образ, рассматриваемый именно в качестве внутренней (субъективной) «репрезентации» окружающей нас «объективной действительности».
Если на ранних этапах развития интуитивизма создатели данной парадигмы пытались как-то согласовать интуитивистскую теорию восприятия с данными научной физиологии и психологии восприятия, то современный интуитивизм, как правило, вовсе игнорирует данную проблему. И это не случайно. Ранний интуитивизм, по сути, носил не вполне последовательный характер, и эта непоследовательность проявлялась в стремлении согласовать новое философское видение восприятия с данными естественных наук. Однако вскоре стало ясно, что если мы принимаем концепцию «прямого схватывания реальности» в чувственном восприятии, то мы не можем сохранить представление об «онтологичности» научной картины мира, т.е. сохранить представление, что то, что изображает наука (например, физика) есть некие реальные, объективно существующие вне нас предметы.
Действительно, современная научная картина мира отнюдь не является простым повторением того, что нам дано в чувственном восприятии. Чувственно мне даны твердые, сплошные, окрашенные предметы: стол, стул, стены, компьютер и т. п. Наука же утверждает, что эти объекты отнюдь не сплошные, но состоят из отдельных дискретных единиц – атомов, разделенных значительными промежутками пустоты, и «скрепленных» друг с другом лишь силовыми связями. Более того, сами атомы на 99,9% состоят из пустоты. Наука утверждает, что не существует цвета, как объективно существующего, присущего самим вещам качества. Объективно существуют лишь длины отраженных от предмета электромагнитных волн, воздействие которых на соответствующие, настроенные на эти волны, рецепторы в глазе (колбочки) порождает, в конечном итоге, ощущение цвета, которое, по сути, есть как бы данное субъекту «кодовое обозначение» определенного интервала длин электромагнитных волн. С точки зрения науки (физики, физиологии), объективно нет ни запахов, ни вкусов – все это лишь субъективные символы, отображающие в нашем сознании определенную геометрическую форму молекул тестируемого органами чувств вещества.
Таким образом, даже с точки зрения классической физики, мир сам по себе отнюдь не таков, каким мы его видим: прежде всего, в нем нет чувственных качеств. Любым качественным различиям в восприятии, наука сопоставляет лишь количественные различия в материальном субстрате. По Декарту, материя – есть не что иное, как «протяженность и движение». Если мы вглядимся в фундаментальные уравнения современной физики (уравнения Ньютона, Шрёдингера, Эйнштейна), то мы увидим, что они в точности соответствуют парадигме Декарта – в качестве параметров уравнения содержат в себе лишь пространственные координаты и время, а также первые и вторые производные от функций, зависящих также от координат и времени, а также числовые коэффициенты, которые, по сути, тоже имеют динамический смысл (масса – как мера инертности и т.п.). По сути, современная физика, особенно если учесть тенденцию к геометрической интерпретации фундаментальных силовых взаимодействий, представляет собой как бы расширенную геометрию, в которой к пространственным измерениям добавлено временное измерение (Дж. Уилер даже определял физику как «геометродинамику»). Все, что не вписывается в эту «геометродинамическую» парадигму, – объявляется чем-то субъективным, существующим лишь в сознании познающего субъекта.
Поскольку в сознании явно есть «качества» (квалии) – которые объявляются несуществующими в природе, то отсюда уже следует невозможность истолкования сознания как чего-то производного от материи. Как материя может породить качества, если она сама по себе бескачественна? Но пока мы отложим обсуждение психофизической проблемы (проблемы отношения материи и сознания) до последней главы этой работы, и продолжим анализ научной картины мира в плане степени ее несоответствия чувственно-воспринимаемой реальности.
Если в классической физике еще сохраняется какой – то элемент наглядности: хотя отрицается объективный статус «вторичных качеств» (цвет, вкус, запах, тепло и т.п.), но, по крайней мере, сохраняется представление об объективном характере «первичных качеств», т.е. геометрических, динамических и вообще любых количественных характеристик окружающих нас вещей, то в неклассической квантово-релятивистской физике – и этот остаток наглядности полностью утрачивается. С точки зрения теории относительности, пространственные и временные интервалы между вещами и событиями не являются объективными характеристиками «самих вещей». Объективно существуют лишь абстрактные «пространственно-временные интервалы», вычисляемые как квадратичные формы от разницы пространственных и временных координат событий. Причем квадрат разности временных координат событий входит в эту квадратичную форму со знаком минус и, т.о., пространственно-временной континуум, в котором «размещаются» события, рассматриваемый как линейное векторное пространство, оказывается изоморфным по своим метрическим свойствам линейному векторному пространству комплексных чисел (имеющих три действительные компоненты и одну мнимую – временное измерение соответствует мнимой компоненте). Особенность линейного пространства комплексных чисел – в его абсолютной ненаглядности. В этом пространстве, например, существуют ненулевые векторы (имеющие ненулевые проекции на различные координатные оси), но, при этом, имеющие тождественно равную нулю длину (т.н. «изотропные векторы» – изображающие траектории, по которым в пространстве-времени распространяются световые сигналы). Угол же между любым неизотропным (внутри светового конуса) и изотропным вектором – всегда равен в этой метрике бесконечности [16]. Воспринимаемые нами пространственные и временные интервалы в этой теории трактуются как проекции единого пространственно-временного континуума на пространственную и временную систему отсчета конкретного наблюдателя. Эти проекции зависят от относительных скоростей наблюдателей и, таким образом, единый пространственно-временной интервал распадается на пространственную и временную компоненту для каждого наблюдателя специфическим образом – в зависимости от состояния относительного движения этого наблюдателя. Поэтому интервал, чисто пространственный или чисто временной для одного наблюдателя, превращается в пространственно-временной для другого наблюдателя (т.е. как бы имеет место частичное превращение пространства во время, а времени – в пространство). Таким образом, с точки зрения релятивистской физики, даже «первичные» – геометрические и динамические свойства (а также и масса) – не являются объективными характеристика вещей – т.к. они не являются инвариантными по отношению к выбору системы отсчета, в которой эти свойства измеряются. Вместо них появляются новые инварианты (пространственно-временные интервалы), которые, однако лишены всякого наглядного смысла, есть лишь математическая абстракция.
Квантовая механика, если понимать ее как онтологически состоятельную теорию, изображающую «истинное» положение дел в мире, буквально утверждает, что все материальные частицы – суть волны. Все состоит из волн. Но непосредственное наблюдение за траекторией движения любой элементарной частицы (например, наблюдение движения заряженной частицы в камере Вильсона) показывает, что она движется по вполне определенной классической траектории, т.е., показывает, что она является корпускулой, а отнюдь не волной (которая, в отличие от корпускулы, движется сразу по всем возможным траекториям). Волновые же свойства частиц проявляются в лишь том случае, если у нас нет возможности непрерывно наблюдать за движением частицы. Если истиной является тезис, что всякая частица – есть волна, и что она движется сразу во всех направлениях, как любая волна, а мы, однако, видим ее всегда как классический объект, осуществляющий лишь одно из возможных движений по конкретной траектории, то это означает, видимо, что мы просто видим не то, что есть на самом деле – видим как бы лишь некий «классический срез» или «проекцию» гораздо более сложно устроенной квантовой реальности, а специфику этого «среза» определяет, как можно предположить, именно работа нашего сознания (см. об этом подробнее в 6 главе данной работы).
Таким образом, мы видим, что обыденная реальность, данная нам в чувственном восприятии, не только не совпадает с научной картиной мира, но по сути даже ей не изоморфна (не является ее взаимно-однозначным отображением). Мы видим лишь некий аспект, «срез» или «проекцию» научно постигаемой реальности, причем видим в некой субъективной (пространственно-временно-качественной) репрезентации. Отсюда следует, что обе эти картины мира – и чувственно-воспринимаемая, и научно-постигаемая, не могут быть одновременно истинными. Если истинна научная картина мира, то чувственная картина – ложна, в том смысле, что она является лишь неполным, опосредованным, односторонним изображением (проекцией) некой, по сути даже невообразимой (но вполне мыслимой посредством математических формул), и гораздо более содержательно богатой и сложно устроенной истинной «объективной реальности». Если же, как настаивают интуитивисты, «мы видим сами вещи», то вещи должны быть именно такими, какими мы их видим. Тогда именно чувственное восприятие дает нам истинное изображение реальности. (А. Бергсон прямо указывал, что «материя совпадает с чистым восприятием», она «абсолютно такова, как кажется» и, следовательно, «было бы напрасно придавать мозговому веществу способность порождать представления» [1, с. 202—203]). Но, в таком случае, научная картина мира должна быть квалифицирована как ложная. Это означает, по меньшей мере, что все специфические объекты науки (атомы, волны, элементарные частицы и т.п.), поскольку они не даны в восприятии, существуют лишь как мысленные конструкции в головах ученых, придумавших эти конструкции. (Физические объекты существуют лишь «в головах» физиков – и больше нигде). Научная картина мира здесь как бы «надстраивается» над подлинным бытием (данным нам в восприятии) и, с этой точки зрения, само ее существование оправдано лишь чисто прагматическими целями – эта картина призвана упорядочить наш чувственный опыт, связать его в единое логическое целое, что позволяет нам, в конечном итоге, предсказывать одни чувственные факты на основе других чувственных фактов. Наука, с этой точки зрения, поскольку она лишена онтологического содержания (не есть описание чего-то реально существующего), приравнивается в этом своем статусе к любой другой альтернативной картине мира (мистической, мифологической, религиозной). Преимущество науки можно усмотреть лишь в удобстве ее использования – она позволяет максимально сократить число первопринципов, описывающих структуру значимых для нас связей в опытно данной нам реальности (позволяет, например, свести всю классическую механику к одному динамическому уравнению) и, т.о., обеспечивает «экономию мышления» (по Э. Маху).
Именно такое понимание науки – как некой условной, лишенной онтологического содержания модели реального чувственно-постигаемого мира, по сути, и преобладает в современной философии. Отсюда вытекает, с одной стороны, возможность игнорировать научные теории (например, физиологическую теорию восприятия), а с другой – трактовать науку как форму культуры, которая находится в одном ряду с религией, мифологией, художественной литературой, и исследовать ее в контексте культурно-исторической динамики любых других культурных образований.
Как нам представляется, такое понимание науки в рамках интуитивизма, противоречит самому смыслу научной деятельности, как поиску объективной истины, ведет к неизбежной релятивизации и принижению значения научного знания. С этих позиций, например, трудно понять, почему целые разделы науки, (геометрия, механика и т.п.) могут сохранять внутреннее единство и устойчивость во времени, и почему наука обладает таким огромным прогностическим потенциалом – несмотря на то, что с интуитивистской точки зрения она никакого отношения к подлинной реальности не имеет. Здесь объективность научного знания незаслуженно приносится в жертву весьма предвзятой и, по сути, весьма уязвимой для критики интуитивистской теории «прямого восприятия реальности».
Уязвимость же интуитивизма вытекает из простейших аргументов, известных еще античным скептикам. Суть этих аргументов в том, что «объективность» чувственной картины мира вступает в явное противоречие с относительностью нашего восприятия. Существование иллюзий восприятия, тот факт, что восприятие качеств (например, цвета, вкуса, запаха, холода, тепла) зависит от состояния наших органов чувств и организма в целом (человек с желтухой, все видит желтым, с воспаление глаза – красным, у беременных изменены вкусовые ощущения, повреждение периферических нервов не позволяет чувствовать тепло или холод и т.п.), – явно говорит не в пользу теории «прямого восприятия». Если мы видим «сами вещи», то вещи должны быть именно таковы, какими мы их видим. А это означает, что если меняется восприятие – то должна меняться и сама вещь. Я надавливаю пальцем на глазное яблоко – и вижу, что вещь, на которую я смотрел, раздвоилась. Если буквально следовать интуитивизму, нужно признать, что надавливание на глаз порождает удвоение реальной вещи. Почему же другой человек в этом случае не видит эту вещь раздвоенной? Почему розовые очки окрашивают видимые вещи в розовый цвет и почему это окрашивание не видят другие? Почему очки корректируют зрение? Все эти вопросы, элементарно разрешимые в рамках репрезентативной теории восприятия, превращаются в неразрешимые загадки с точки зрения интуитивизма. Стоит ли в таком случае отказываться от репрезентативной теории восприятия? Мы полагаем, что не стоит. Как только мы возвращаемся к репрезентативной модели – все встает на свои места. Физиологические и психологические теории восприятия обретают свой истинный смысл, а наука обретает статус «истинного изображения реальности».
Однако остается та самая проблема «преодоления солипсизма и экзистенциального одиночества», попытки решения которой в конечном итоге и породили интуитивизм. Возможно ли какое-то другое конструктивное решение этой проблемы? Если мы принимаем репрезентативную теорию восприятия и признаем, что мы видим не «сами вещи», а лишь субъективные образы вещей в нашем сознании, то, очевидно, преодолеть солипсизм и «экзистенциональное одиночество» возможно лишь постулировав наличие прямого доступа «к самим вещам» на уровне какой-то иной познавательной способности. Помимо восприятия, другой нашей познавательной способностью является мышление. Логично предположить, что если выход к «самим вещам», в силу опосредованности восприятия, не возможен, то он, однако, возможен на уровне интеллектуального постижения этих вещей. Иными словами, вместо формулы интуитивизма: «мы видим сами вещи, но мыслим лишь собственные мысли, производные от восприятий», мы предлагаем формулу: «мы видим не вещи, но образы вещей в нашем приватном чувственном сознании, но мыслим сами вещи в подлиннике».
К такому выводу нас подталкивает и сравнительный анализ гносеологических свойств восприятия и мышления. Особенность восприятия в его приватности, невозможности передать другому в точности содержимое моего чувственного опыта. Только я лично знаю, как выглядит «красное» в моем восприятии, как именно я чувствую боль, музыку, тепло и холод. Только я знаю, что означает быть на чувственном уровне мною. Такая приватность чувственного внутреннего мира, тем не менее, не лишает нас возможности обмениваться мыслями, адекватно понимать друг друга. Это возможно, очевидно, потому, что содержание мысли – смысл – есть инварианта, «чистая информация», содержание которой абсолютно не зависит от набора квалий, посредством которых данная информация представлена в нашем чувственном опыте. Эта инварианта одинакова для всех субъектов восприятия, как бы они ни воспринимали окружающий мир. Мы воспринимаем окружающий мир, как вполне возможно допустить, по-разному, но способны мыслить этот мир вполне одинаково, что и делает возможным взаимопонимание, согласие в содержании мысли. Знаменательно, что там, где мышление наиболее очищено от чувственной компоненты, например в математике, в логике, мы способны достигать абсолютного согласия – доказательства теорем, полученные одним математиком, как правило, достаточно быстро принимаются (если они истинные) всем математическим сообществом. Здесь достигается подлинная общезначимость мысли, онтологически указывающая на нечто поистине всеобщее, надындивидуальное, лежащее в основе нашего мышления.
Таким образом, если наше сознание не является абсолютно замкнутым в себе и, следовательно, имеет прямой доступ к внеположной реальности, то этот прямой доступ «к самим вещам», видимо, имеет место не на уровне чувственного восприятия, как полагают интуитивисты, а на уровне мышления. Иными словами, мы чувственно воспринимаем не «сами вещи», а их субъективные репрезентации в нашем чувственном сознании, однако, при этом, мы мыслим «сами вещи» – т.е. мышление и есть искомый механизм прямого доступа к подлинной внеположной реальности. Ясно, что в таком случае «внеположная» сознанию реальность является внешней (трансцендентной) лишь по отношению к чувственному восприятию. На уровне же мышления она имманентна нашему индивидуальному сознанию, которое, таким образом оказывается разомкнутым на уровне предметов мышления, «укорененным» в некой надындивидуальной реальности. Эту умопостигаемую реальность мы определяем как «подлинное бытие», «объективную реальность», «подлинный внешний мир».
Вместе с тем, очевидно, что мыслить мы можем лишь мысли, идеи, некие «умопостигаемые объекты», которые, в отличие от чувственных объектов, лишены качественности, пространственности и даже временности (как мы покажем ниже). Если, при этом, мы мыслим и «сами вещи», то, очевидно, это означает, что «истинные вещи» и есть мысли. Т.е. бытие, открываемое нашему мышлению, есть бытие самого содержимого этого мышления – мы приходим, таким образом, к парменидовой идее тождества бытия и мышления: «одно и то же мысль и то, о чем она существует» (т.е. мысль о предмете тождественна предмету мысли). Если бы это было не так, то, очевидно, помыслить бытие было бы невозможно (поскольку мы можем мыслить только мысли). Таким образом, принятие тезиса тождества бытия и мышления совершенно необходимо для того, чтобы мышление о бытии (онтология) вообще было возможно.
Предлагаемое нами решение проблемы преодоления солипсизма и «экзистенциального одиночества» посредством постулирования прямого доступа к реальности на уровне мышления, очевидно, есть не что иное, как возврат к платоновской метафоре «пещеры» – как к глобальной парадигме, объясняющей отношение чувственного и интеллектуального познания к объективной реальности. На уровне чувственного восприятия, мы как бы замкнуты в своем приватном «субъективном мирке» и видим лишь «тени на стене пещеры» – субъективные репрезентации истинной внеположной реальности, данной нам в этих репрезентациях в существенной содержательной неполноте. Мы видим лишь некий, обусловленный устройством нашего сознания и когнитивного аппарата, а также условиями восприятия, «срез» гораздо более богатой и сложной «подлинной реальности», причем этот «срез» дан нам в «условной», как бы «закодированной форме» – его можно уподобить прочтению браузером компьютерного файла и созданию на его основе изображения на экране монитора. Между файлом и изображением существует изоморфизм, но отсутствует какое-либо наглядное сходство. Также и чувственный образ изоморфен (или, точнее, гомеоморфен – поскольку содержит не полную информацию о вещи) вещи, но та же самая информация представлена в образе, видимо, в совершенно иной форме, отличной от той, в которой она существует в самой вещи. Однако, на уровне мышления, мы как платоновский мудрец, «оборачиваемся к входу пещеры» – и видим сами прообразы, порождающие «тени на противоположной стене пещеры», т.е. воспринимаем «сами вещи» в их подлинном бытии. Эти подлинные вещи – суть не что иное как аналоги платоновских «эйдосов» – это умопостигаемые, сверхчувственные предметы, нечто, как говорил Платон, «безвидное», «то, что нельзя сжать в руке». Они лишены качественности, пространственности, временности, есть как бы «чистое знание», «чистая информация», лишенная какой-либо чувственной формы представленности.
Вместе с тем, как мы видели выше, именно такими свойствами обладают физические объекты, как их описывает неклассичекая квантово-релятивистская физика. Уже классическая декарто-ньютоновская физика сводила материю к «чистой протяженности», лишая ее, таким образом, чувственно воспринимаемых качеств. Теория относительности лишила физическую реальность пространственности и временности, заменив их абстрактной конструкцией четырехмерного пространства-времени. Квантовая механика лишила физические объекты определенности даже в плане их количественных характеристик. Вне акта наблюдения мы имеем квантовый объект, описываемый волновой функцией, которая задает нам лишь вероятности наблюдения того или иного исхода измерительного эксперимента с данным объектом. Таким образом «вещи» здесь превращаются в «наборы потенцией», они обладают лишь возможностным, а не действительным существованием.
Мы видим, что в неклассической физике реальность превращается в нечто безвидное, эфемерное, подобное бытию мысли, платоновским «эйдосам», а не бытию чувственно воспринимаемых нами «предметов видимого мира». Не случайно одни из создателей квантовой механики Вернер Гейзенберг утверждал, что в современной физике «линия Платона победила линию Демокрита» [5], имея в виду, что объекты квантово-релятивистской физики более похожи на абстрактные «идеальные многогранники» или «эйдосы» Платона, чем на наглядные атомы Демокрита. Далее, в пятой главе мы подробно разовьем эту идею Гейзенберга, и покажем каким образом данная «платоновская» теория познания, основанная на идее прямого доступа к «самим вещам» на уровне мышления (т.е. основанная на идее тождества бытия и мышления), способна прояснить особенности описания реальности в неклассической (квантово-релятивистской) физике.
На пути реализации идеи возможности прямого доступа «к самим вещам» на уровне мышления у нас сразу же возникают два существенных препятствия. Первое препятствие – это существование ошибочных идей, в частности, ошибочных научных теорий. Действительно, если мышление есть прямой доступ к «самим вещам» и, следовательно, мысль о предмете тождественна предмету мысли, то любая мысль должна быть истинной, т.к. истина (по Аристотелю) и есть совпадение мысли и ее предмета. Как тогда возможна какая-либо ложь в мышлении, несоответствие мысли реальности? На наш взгляд ложь возникает по двум, существенно различным причинам. Первая причина носит сугубо онтологический характер и связана с характером умопостигаемого бытия, открывающегося нашему мышлению. Очевидно, что помыслить можно не только то, что существует в нашем физическом мире, но также вполне непротиворечиво возможно помыслить миры с иными, альтернативными физическими свойствами, иными физическими законами. Таким образом, непосредственно открытую нашему мышлению онтологическая реальность можно, в духе Лейбница, характеризовать как «множество всех возможных миров» («Умопостигаемый универсум»). Чувственный мир, открытый нашему восприятию, в соответствие с метафорой «пещеры» Платона, следует понимать как некую согласованную для разных субъектов «проекцию» в их индивидуальные сознания (чувственные приватные «мирки») одного из этих «умопостигаемый миров», непосредственно доступных для нашего мышления. Критерием истины, а, следовательно, и критерием непосредственной бытийной данности в мышлении, очевидно, является закон непротиворечивости. Содержательно помыслить можно любой мир, если он непротиворечив. Чистое мышление, таким образом, имеет дело с миром возможного и способно само по себе, без помощи восприятия, различать только возможное и невозможное (непротиворечивое и противоречивое). Но, однако, мышление не способно априори определить, в каком из возможных умопостигаемых миров мы себя эмпирически (на чувственном уровне) обнаруживаем (т.е. не способно априори различить возможное и действительное). Для решения последний задачи – выяснения, в каком из возможных миров мы чувственно себя обнаруживаем (какой именно «фрагмент» «Умопостигаемого универсума» разворачивается в нашем приватном «чувственном мирке»), – как раз и необходим чувственный опыт. Этим, собственно, и объясняется, почему физику невозможно построить подобно математике на чисто априорной основе, путем дедукции из самоочевидных аксиом. Априори можно построить лишь бесконечное множество «физик возможных миров» с альтернативными физическими свойствами. Но только чувственный опыт позволяет нам выбрать из этого множества миров тот единственный, в котором мы себя на уровне чувственного восприятия обнаруживаем.
Другая причина появления «ложных идей» – несовершенство нашего мышления. В своей мыслительной деятельности мы активно пользуемся языком, который позволяет не только передавать информацию, знания от одного индивида к другому, но и активно используется нами как средство конструирования новых понятийных выражений. Произвольно комбинируя слова, легко построить бессмысленные выражения типа «круглого квадрата». В данном случае нонсенс очевиден. Мы лишь как бы обозначаем в данном понятии задачу для мышления (помыслить нечто одновременно круглое и квадратное), но эта задача явно нереализуема в нашем мышлении. В других случаях нонсенс далеко не очевиден. Потребовалось, например, несколько десятков лет, чтобы показать, что выражение «универсальный алгоритм решения любых диофантовых уравнений» обозначает нечто реально не существующее. Теоремы Курта Гёделя показывают, что задача выяснения непротиворечивости той или иной математической конструкции весьма не тривиальна и абсолютных гарантий в того, что мы в некоторой аксиоматической системе в будущем не столкнемся с противоречиями, не существует. Таким образом, наша способность с помощью комбинирования словесных обозначений строить новые понятия, не до конца вникая в их конкретное содержание, – приводит к тому, что в нашей сфере мышления появляются как бы «квазимыслимые» объекты, представляющие, по сути, несуществующие регионы Умопостигаемого универсума. Причина появления ложного здесь – ограниченная способность нашего мышления к симультанному схватыванию смысла сложных понятийных конструкций, в которых одновременно реализовано большое количество элементов и их логических отношений.
Другое препятствие, с которым сталкивается теория «прямого постижения» реальности в мышлении – это вопрос об онтологическом статусе самих умопостигаемых объектов. Принцип тождества бытия и мышления недвусмысленно указывает на бытийность мысли и ее предмета. Предмет мышления (идея, эйдос) есть, с этой точки зрения, нечто реально существующее, наличное в составе бытия. В этом суть определения платонизма как «реализма», т.е. учения о реальном, объективном статусе существования «мира идей». Последний существует как некий фундаментальный слой реальности, существующий независимо от чего-либо иного, тогда как чувственный мир понимается как нечто производное от «мира идей» – как «проекция» некоторой части этого мира в индивидуальное приватное чувственное восприятие конкретных субъектов.
Именно эта идея «самостоятельной» бытийности мысли представляется многим философам неприемлемой. Первыми последовательными отрицателями реальности «мира идей» были античные стоики, которые ввели понятие «лектон» для обозначения категории смысла (содержания мышления). Лектон у стоиков толковался как некий вид небытия, нечто лишенное самостоятельного бытия, но существующее лишь как система отношений внутри материального бытия (система отношений между субъектом, знаком и обозначаемым). В системах британских эмпириков (Беркли, Юм) смысл, как сверхчувственная онтологическая реальность, отсутствует даже в индивидуальном сознании, а мышление трактуется как процесс манипулирования представлениями, имеющими скорее чувственную, а не сверхчувственную природу. Другие философы, признавая существование смысла как некой сверхчувственной бытийной реальности, тем не менее, ограничивали его существование лишь индивидуальным сознанием, отрицая надындивидуальный статус содержимого мысли.
Таким образом, следующая задача, стоящая перед нами в рамках общего проекта «апологии идеализма» – показать реальную бытийность предмета мысли (смысла), а также обосновать его надындивидуальный статус. Для этого необходимо обратиться к феноменологии сознания, выяснить, путем интроспекции, из каких компонент сознание состоит и какими фундаментальными онтологическими свойствами эти компоненты обладают. Этим вопросом мы займемся в следующей главе.
Феноменология сознания. Смысл как сверхчувственная бытийная компонента сознания