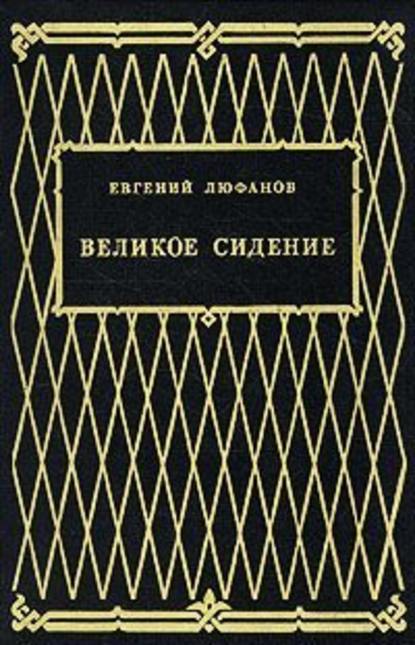По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великое сидение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Петрушенька, старичок мой дорогой, совсем ты захлопотался, не бережешь себя. Опять вот пришлось капли пить… Поезжай, миленький, в Петергоф, там море, которое ты так любишь. Отдохни, большая польза будет от этого, а потом с новыми силами примешься за дела.
Ласковая, заботливая она, Катеринушка, друг сердешненький. Только лучшего хочет своему старичку, и как он благодарен ей за такую заботу!
– Правда, Катеринушка, малость надобно отдохнуть.
– Ну, конечно же! – подтверждает она, довольная, что он ей послушен… «Слава богу, наконец-то уедет!» – готова она перекреститься. С каждым днем все труднее ей сдерживаться, притворяться по-прежнему нежной и любящей, тогда как глаза готовы метать на него ненавистные взгляды.
Вспомнила недавнее катание по взморью. Уже кончилось бабье лето, зачастили было осенние дожди – и вдруг выдался теплый, по-летнему солнечный день, словно возвратился июль. Петр предложил ей воспользоваться погожими часами и покататься на ялике. Пригласил Вилима Монса и дамой ему – веселую князь-игуменью Ржевскую. Поехали, покатались.
Каким стройным, красивым щеголем выглядел Вилим перед осунувшимся, сутуловатым Петром, стоявшим за штурвалом в своей потертой шкиперской куртке. Противно Екатерине было смотреть на обветренное, подергивающееся от нервного тика его лицо, и она отдыхала взглядом на цветущем свежестью и красотой лице своего любимца, нарядная одежда которого дополняла приятное впечатление. На Вилиме был кафтан из дорогого лионского бархата с серебряными пуговицами, отороченный золотым позументом; на ногах – розовые шелковые чулки и башмаки с дорогими пряжками; под расстегнутым кафтаном виднелся жилет из блестящей парчи; на голове пуховая шляпа с плюмажем из разноцветных перьев. И все это с иголочки, все так к лицу и фигуре статного камер-юнкера и могло лишь восхищать «премилостивую государыню», как называл ее Монс при Петре.
– Мне нравится, что наш камер-юнкер так опрятно одет, – как-то сказала она супругу, а тому все равно: пускай хоть павлином нарядится.
Под стать Вилиму Монсу была всегда и она сама: то в дорогом из серебристой материи платье, то в атласном оранжевом, с кружевами, то в бархатном, вишневого цвета с меховою отделкою. На алых, слегка припухших ее губах – неизменно-приятная улыбка; убранная с большим вкусом черная густая коса обрамляла лицо, как бы опаленное легким румянцем ланит; глаза поблескивали огнем затаенной страсти; нежная белизна открытой шеи походила на белизну мраморной Венус, и нерастраченным здоровьем дышала царственная высокая грудь.
А здоровье державного супруга заставляло его все чаще прибегать к лекарствам и к возбуждающим дух и тело снадобьям, включая анисовые и другие напитки «Ивашки Хмельницкого». Придворным медикам Лаврентию Блюментросту и Роберту Арескину все труднее приходилось предотвращать недужность царя, не соблюдавшего в еде и питье должной меры.
Теперь в Петергофе он на радость Екатерине и Вилиму Монсу, которым можно чаще и дольше быть вместе. Неприятно только, что Петр вынуждает «сердешненького друга» отвечать на частые его письма. Можно подумать, что уехал в дальнюю даль, откуда и сообщает о своей тоске, томящей его в разлуке с любимой женой: «Дай боже вас видеть в радости, а без вас скучно очень… Я бы желал, чтобы и вы были здесь (приглашает он ее в Петергоф), ежели вам не трудно (уже не приказывает ей, как бывало, а просит), понеже пустить воду из фонтанов без вас не хочется… Очень скучно без вас, и для того по берегу мало хожу, а обретаюсь все дома».
В своих ответных письмах она благодарит его за любовь и приглашение, но, к большому сожалению, приехать никак не может, – заботы о детях удерживают ее в Петербурге. Пусть батюшка государь не скучает, а изрядно отдыхает и набирается сил для радостной потом встречи.
– Опять от него письмо? – с усмешкой спрашивает Монс.
– Опять. Я боюсь, Вилим, что он вот-вот приедет. Если бы ты только знал, как я не хочу его видеть.
– Знаю, Катрин. Уговаривай, чтобы он оставался там. Пиши, что на море воздух здоровее, чем в слякотном Петербурге. Пусть остается там до зимы.
– Я так ему и пишу.
Дети… Забота о них удерживает ее. Несчастный Шишечка. Теперь уже нет никакой надежды, что он может поправиться. Не ходит, не говорит, беспрестанно течет слюна, бессмысленный взгляд… Да, наследником престола царевичу Петру Петровичу стать не придется. В своего дядю, царя Ивана, пошел. Даже хуже. Тот хотя и косноязычно, но мог говорить и ходить умел, а этот…
– Грабит, грабит меня бог сыновьями, – с неизбывной горечью говорил Петр.
– Не утруждайте себя мрачными думами, государь, – советовал ему лекарь Блюментрост.
– Как же не утруждать, когда они неотступны?
– Поспите еще. Вы очень мало спали сегодня.
– Мало, да. И никакая твоя микстура, Лаврентий, не помогает.
Занимаясь по совету супруги отдыхом и накапливанием сил, Петр имел немало досужливого времени и вскоре почувствовал гораздо большую усталь, нежели от любой работы. С отдыхом следовало немедля кончать, чтобы не известись совсем, а чем занять свои руки, не желавшие никакого покоя? Токарного станка у него в Петергофе не было, а короткий осенний день все равно оказывался долгим потому, что начинался он при зажженных свечах с четырех-пяти часов пополуночи.
Не любя просторных комнат с высокими потолками, царь жил в отгороженной для него каморке с низким, чуть выше его головы, натянутым парусиновым потолком. Денщик затапливал печку, а умывающийся государь, – в ночном колпаке, шлафроке и в домашних туфлях на босую ногу – начинал «отдыхать» в ожидании завтрака. Если было жарко, сбрасывал шлафрок, оставаясь в рубашке, не стесняя себя в одежде. Наскоро перекусив и записав на аспидной доске или в записной книжке пришедшие на ум мысли, в ожидании рассвета опять «отдыхал», а потом уходил к морю или бродил по петергофскому парку, встречаясь с садовниками и с фонтанными мастерами, нередко помогая им в их делах. К полудню возвращался к себе обедать, а случалось, что принимал приглашение кого-нибудь из петергофских служителей пообедать у него.
Зная повадки царя, хозяину дома не нужно было сажать дорогого гостя в особо почетном месте и раболепствовать перед ним, не то царь мог подняться и уйти. Чем больше простоты и непринужденности, тем лучше для всех. Никаких особенных блюд Петр не признавал, предпочитая обычные, русские: щи да кашу, соленые огурцы да квашеную капусту. Ну, а если у хозяина оказывалась припасенной к обеду водка, то от поднесенной чарки неучтиво было отказываться. После обеда отдавал примерно часовую дань дрёме, хотя бы то было в гостях. Сам он никаких обедов в Петергофе никому не давал потому, что жизнь здесь похожа была на походную, да он и в Петербурге не проявлял себя хлебосолом. Дома в столовой у него могли поместиться за столом не более двенадцати человек. Подадут кушанье, хозяева всем семейством усядутся, а гостям – как придется. Без всякого смущения царь Петр скажет им:
– Садитесь, кому достанется место, а прочие – поезжайте обедать к себе домой.
Ну, а в Петергофе в его каморке вовсе стол небольшой, и обед готовился только для царя с денщиками, которые были у него вместо камердинера, кучера, истопника и других слуг. Так что дожидайтесь, гости, когда царь захочет вместе с вами попировать, но опять же не у него это будет, а в палатах светлейшего князя Меншикова или у кого из других вельмож, где соберет царь большое застолье.
Набираясь в Петергофе здоровья, Петр на досуге перебирал в памяти, что было сделано у него в парадизе и что предстоит еще сделать. В летнюю пору, например, одним из любимых развлечений не только его самого, но и многих петербургских хозяев было катание на Неве. В указе сказано: «для увеселения народа, наипаче же для лучшего обучения, искусства и смелости в плаваньи» розданы безденежно от казны парусные и гребные маломерные речные суда градожителям в их постоянное пользование при условии: «ежели какая трата на какое судно придет, то владелец повинен будет такое же заново сделать и никак не менее того, а ежели более – на то воля его самого, на потомки его и наследники, и то будет похвально». Для постройки и починки таких судов основана партикулярная верфь на Малой Неве. Каждое судно следовало содержать в чистоте и исправности, и строго отмечалось, что «сии суда даны, дабы ими пользоваться так же, как на сухом пути каретой и коляской, а не как навозной телегой».
Кто скажет, что такое было худо задумано? И задумано хорошо, и выполнялось многими хозяевами с большой охотой.
А как приятно вспомнить, например, последнее катание по взморью! Катеринушка была очень довольна, и Ржевская с Монсом – тоже. Будущим летом установить надо такой порядок: в определенные дни в разных местах города вывешивать сигнальные флаги, а на крепостном флагштоке поднимать морской штандарт. Это будет означать, что хозяева приглашаются выезжать на своих судах и выстраиваться на Неве у крепости. Кто не явится, с того взимать штраф. Собравшиеся суда назвать невским флотом, а командующего над ними – невским адмиралом. Апраксин не сумеет с флотилией сладить, лучше себе самому адмиральские обязанности поручить. Проплыть на своей шняве подальше, как бы разведать путь, а потом повернуть назад, и все суда сразу замрут на месте, выжидая, пока адмиральское не пройдет мимо, и только потом следовать за ним, не имея права обогнать. Сделать все так, как было, когда командовал союзной эскадрой, выводя ее с копенгагенского рейда в Балтийское море. И еще – как было в давнюю мальчишескую пору на Переславском озере с потешной флотилией… Ах, как все это заманчиво! Хорошо, что почти в пятьдесят лет он остается с неутраченными чувствами юности… Нет, до старости еще далеко, и Катеринушка преждевременно старичком называет. Сам ей такой повод дал, начав прибедняться. Встретившись теперь, можно будет посмеяться над этим. У него еще отменная, матросская удаль.
И действительно так. Никакая волна не могла остановить Петра от поездки по морю на яхте или на весельном боте. Отсюда, из Петергофа, ездил он в Кронштадт в ветреную штормовую погоду. У гребцов замирали сердца, когда бот, взобравшись на гребень крутой волны, словно проваливался с нее в пучину, а он, Петр, крепко держал штурвал и ободрял оробевших:
– Чего боитесь? Царя везете! Не было еще такого, чтобы утонул русский царь.
И счастливо прибыл в Кронштадт.
VIII
Хотя и не частыми гостями, но наведывались к царю в Петергоф близкие ему люди – Петр Андреевич Толстой, человек тонкого ума, умевший все обладить, как тому нужно быть, всякое дело вывернуть лицом наизнанку, а изнанкой на лицо, как говорили о нем некоторые острословы; испытанный в неколебимой верности Павел Иванович Ягужинский – бывший гвардеец и денщик Петра, пожалованный потом в генерал-адъютанты и носивший звание действительного камергера и графа; сенатор старик Тихон Никитич Стрешнев и сводный брат Петра, незаконнорожденный сын царя Алексея Михайловича, тоже сенатор и граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин.
Гости эти были неприхотливые, никаких хлопот хозяину не доставляли, приезжая даже со своей едой, и, как правило, в тот же день возвращались в Петербург.
– Ну, рассказывайте, что хорошего нового, да и о плохом не забывайте, – радушно встречал их Петр.
– Новость отменная, государь, – начал рассказывать Толстой. – Явились в Петербург ходоки-азияты из туркменской земли. Без малого два года были в пути и пришли бить тебе челом, просить, чтобы ты, великий государь, дал их земле воду.
– Завистливо смотрели на Неву и на взморье, – добавил Ягужинский. – Ай, ай, как воды много!
– Как же вы с ними беседовали?
– Один из них толмачом был, знал по-русски.
– Ну и как же я воду им дам?
– Надеются на тебя, государь. Упирают на то, что такой долгий путь одолели и ни с чем им воротиться никак нельзя.
– Надеются на царя… – скривил Петр губы горькой усмешкой. – Целый народ в детских розмыслах пребывает. Разуверили вы их в силе царя?
– Разуверили, государь, сказали, что такое несбыточно, и они совсем огорчились.
– Не случилось бы так, что, отчаявшись в твоей помощи, станут иной защиты себе искать, – высказал опасение Стрешнев.
– А кто же другой от себя воду им даст?.. Послать к ним нужно толковых людей, чтобы разъяснили неразумность такой просьбы, а в чем можно, в том нужно им помогать, дабы видели заботу о них.
– Трудно вести общение с ними, ежели в один конец весть подать около двух лет надобно да ответ через столько же лет придет, – усомнился Мусин-Пушкин в возможности иметь дело с чужедальними поселенцами.
– Для того нарочный почтовый естафет держать надобно, а не пеши ходить, – сказал Петр. – Мы знаем места гораздо отдаленные, однако сообщаемся с оными. Несколькими годами назад дошло ко мне известие, что буря выбросила на берег Камчатки японца по имени Денбея и он стал жить там. От меня указ был, чтобы втолковать тому Денбею учить своему японскому языку и грамоте камчатских ребят, человек пять либо шесть. По нарочному почтовому естафету я справлялся потом о Денбее, учит ли он своему языку кого, а еще через год стало известно, что в помощь Денбею приискан другой японец и они приедут к нам. По их прибытии откроем в Петербурге школу японского языка и наберем учеников из солдатских детей. Загадочен и зело заманчив к познанию дальний камчатский край. Мыслю послать туда экспедицию, чтобы описали Камчатку с прилегающими к ней землями и водами и чтоб все на карту исправно внесли, а также установить, сошлась ли Америка с Азией и в каком именно месте. Я и сам с великой охотой поехал бы про все то разузнать.
– Ой, государь, опасно такое, – несогласно покачал головой Стрешнев. – Мало ли что в столь дальнем пути приключиться может и даже погибельно.
– Аль ты не слыхал, Тихон Никитич, что окольничий Засекин дома у себя, когда студень ел, то от свиного уха задохся? – посмеялся его опасениям Петр.