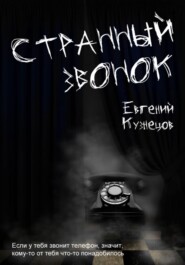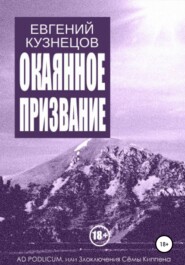По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Досадная ошибка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но я же всего на одну минуту отлучилась…
Я ненавязчиво развернул старушку за плечи и направил в сторону двери. Не обращая внимания на ее слабые протесты, я так продолжал:
– …Муза Сидоровна, конечно же, будет возмущена, может, даже покричит на вас, но только и вы не робейте перед ней. Скажите, мол, эту экспозицию все равно в скором времени пришлось бы снимать.
– Правда?
– Абсолютно точно. Я как раз и ждал вас, чтобы сообщить об этом. Так что не переживайте, все к лучшему.
Мы уже шли по коридору к кабинету Бараниной.
– И самое главное, – инструктировал я смотрительницу, – обязательно скажите Музе Сидоровне, что пропажу фотографии обнаружил журналист Семен Киппен. Вы запомнили? А так же настаивайте на замене всей экспозиции, не дожидаясь громкого скандала.
Мы остановились напротив двери директорского кабинета.
– Повторите, что вы ей скажите? – попросил я старушку, чтобы удостовериться, что она от волнения ничего не напутает.
– Всего на одну минуту… – послушно начала она. – Пропала фотография… Журналист Семен Киппен… Громкий скандал… Все к лучшему… – закончила старушка, глядя на меня через очки и часто-часто моргая увеличенными линзами глазищами.
– Ладно, сойдет, – одобрил я.
Я постучал в директорскую дверь и открыл ее перед растерянной старушкой.
– Ну, с богом, – напутствовал я ее полушепотом и слегка подтолкнул в спину. – И не забывайте, Семен Киппен, журналист-расследователь.
Я закрыл дверь за спиной этого бедного перепуганного божьего создания. Пускай теперь Баранина не поспит пару ночей.
Глава 5
На улице было промозгло и сыро. Зато изнутри меня согревал огонек азарта охотника, поддерживаемый спиртным. Я завинтил крышку на бутылке и опустил ее в карман плаща. Холодный ветер заставил меня поднять воротник. Я ступил на тротуар и пошел бульвару Креншоу в обратном направлении. Мои утренние планы неожиданным образом изменились. Вместо своего офиса, я вознамерился посетить одну очень влиятельную, но крайне вредоносную общественную организацию.
За одноэтажным строением продовольственного «Супермаркета» я свернул в проулок, вышел на широкий Сикомор-бульвар и, перейдя на другую сторону, оказался перед ближайшим в этом районе почтовым отделением. Внутри было малолюдно. Две пожилые дамы стояли перед витриной с образцами упаковки для посылок и, негромко переговариваясь друг с другом, подбирали подходящую коробку. Молодая женщина возле крайнего окошка оплачивала почтовые услуги. Два соседних окошка были закрыты.
Я остановился у напольной вращающейся стойки, на которой были выставлены для продажи конверты, открытки, карманные календари, карты города, а также городские телефонные справочники. Я выбрал самый свежий справочник и отыскал в нем адрес совета заслуженных работников культуры и искусства. Истсайд, Асбест-стрит, «МКД-апартментс», двадцать два – это был не самый благополучный район, проще говоря, криминогенная окраина. Непонятно, с какой целью общественная организация забралась туда, где принято было околачиваться всякому преступному сброду? Неужели таким радикальным способом общественники скрывались от назойливых посетителей?
Я не стал ломать голову понапрасну. Переписав адрес в блокнот, я вернул справочник на место и глотнул спиртного. Пряча бутылку в карман, я поймал на себе неодобрительный взгляд из освободившегося окошка. Я понимающе кивнул почтальонше, мол, да, я и сам осуждаю распитие алкогольных напитков в общественном месте, и поспешно покинул почтовое отделение. Дальше я направился в сторону Истсайда.
Город был сер и мрачен, ничего не радовало глаз. Кроме того, я непроизвольно отмечал взглядом каждую мемориальную доску. Оказывается, их было превеликое множество. Они буквально преследовали меня – черные гранитные доски. Складывалось впечатление, что я попал в колумбарий. Нет, ну действительно, зачем навешивать на изысканный особняк позапрошлого века кладбищенскую черную доску в память о том, что здесь жил и творил заслуженный-презаслуженный, почетный-распочетный литератор Пегас Околесович Вдохновеньев? Он же здесь не погребен, в конце концов! Почему бы благодарным потомкам не сделать памятную доску из какого-нибудь цветного мрамора, например, бежевого в серую крапинку, украсив буквы золотом? Глаз радуется ярким цветам, а от черного непроизвольно бежит. И так мало радости в жизни, особенно с похмелья… Я был не в духе.
За высокой кованой оградой мелькнули остроконечные башенки театра. Из чистого любопытства я подошел к величественному зданию и оглядел фасад. И здесь была доска! На желтой кирпичной кладке поблескивал черный прямоугольник из гранита. Вдобавок к тексту на нем было высечено изображение. Я узнал лицо Визгунова, бывшего директора театра. Не знал, что и этот «выдающийся» деятель удостоился памятной доски. Помнится, о его темных делишках и конфликте с артистами писали все газеты – как местные, так и краевые. Я бегло прочитал текст, не заостряя внимания на грамматических ошибках, которые, разумеется, имелись и здесь. Высокопарные слова «вдохновенный» и «бескорыстный» не имели к Визгунову ровным счетом никакого отношения. Зачем же кому-то понадобилось увековечивать имя того, чья репутация была подмочена?
Чтобы не смущать своим видом входящих и выходящих посетителей театра, я отошел в сторону, выпил и закурил. Недобрые мысли обуревали меня. «Поразительно, насколько возвышенно люди отзываются об ушедших собратьях, – стал размышлять я, засмотревшись на портрет улыбающегося Визгунова, – особенно власть имущих и высокопоставленных. Как будто те были безгрешны при жизни, словно святые. Почему в поминальных словах отсутствует правда жизни? Где полнота образа, где широта взгляда? Ведь всего этого требует истина. Например, даже не будучи знакомым с биографией Визгунова, глядя на его широкое, раскормленное лицо, достаточно точно изображенное на мемориальной доске, становится понятным, что он больше тяготел к хлебу насущному, нежели к пище духовной, как утверждают его отзывчивые потомки. И что в том постыдного, написать о нем правдиво, мол, вдохновленный музой, Визгунов разорил театр, но зато насытил ближнего своего в лице молодой супруги и семерых отпрысков от разных браков, после чего упокоился с миром и ожирением печени, спаси Бог его душу? Правда не может оскорбить. Так зачем же лгать, прикрываясь чистотой душевного порыва?
На Востоке говорят, что даже за движением мизинца кроется какой-то умысел. Стало быть, за каждым движением языка и подавно. Вот только какой умысел имеет место в данном случае? Подхалимаж тут не в счет – угодничество перед покойниками не приносит барышей. Значит, для других ушей предназначены льстивые восхваления. Дело в том, что человек существо социальное, а в сообществе себе подобных принято возвращать долги. Поэтому "скорбящие соратники", когда восхваляют почившего сластолюбца и хапугу Визгунова за бескорыстное служение музам, рассчитывают на то, что потомки оценят их дипломатичность и насочиняют с три короба о них самих, когда тем придет черед упокоиться с миром. Ведь иных причин для этого не будет, а так хочется оставить после себя добрую, светлую память. Противоречиво устроен человек: прожив жизнь в пороке, хочет, чтобы его не судили за это, а, наоборот, восхваляли за несуществующие добродетели. Сплошной обман, самообман и ложь во спасение».
Я был не в духе.
Глава 6
Было что-то около трех, когда я миновал придорожную забегаловку «Пит-стоп», расположенную на границе с восточным пригородом. За время пути я продрог, и новый глоток коньяка согрел меня. Я убрал бутылку и огляделся. Кругом было безлюдно. Лишь в гаражах под автомобильной эстакадой на противоположной стороне улицы я заметил какое-то движение: двое ребят в черных куртках, умело обращаясь с баллонными ключами, снимали колеса с серебристого Кадиллака. Наверное, для вулканизации, подумалось мне.
Вынырнув из-за опоры эстакады, ко мне подрулил белый Форд с наклейками-шашечками на бортах и резко затормозил на обочине. В окне показалось бородатое лицо таксиста.
Чернявый и курчавый молодой парень небрежно бросил мне, будто делая одолжение:
– Садись, братан.
Я покачал головой:
– Ноу мани, амиго.
Таксист усмехнулся:
– Ну как знаешь. На скорой бесплатно довезут.
– Не понял?
– Вон тех двоих видишь? – Таксист показал рукой в сторону двух парней на той стороне улицы. Те грузили снятые с Кадиллака колеса в открытый багажник темно-синего универсала с заляпанными грязью номерами. Они то и дело озирались по сторонам, но когда таксист махнул рукой в их сторону, то остановились и враждебно уставились на нас.
– Ну?
– Они тебя тоже. А им свидетели не нужны.
– Окей, амиго.
Я сел в пропахший женскими духами салон автомобиля. Водила резко дал по газам, и, завизжав шинами на мокром асфальте, такси юзом отъехало от обочины. Узкая двухполоска была свободна. Таксист прибавил газу, и мы помчались мимо складских ангаров товарной станции и верениц цистерн. Я потянулся к ремню безопасности, и в зеркале заднего вида сверкнули глаза таксиста.
– Не пристегивайся, плохая примета, – он рассмеялся.
– Я не суеверный, – ответил я и пристегнулся.
– Тебе куда?
– Асбест-стрит, двадцать два.
Таксист промолчал.
– Район кирпичного завода, – на всякий случай пояснил я.
– Да знаю я. И какой черт тебя туда несет? – ворчливо пробурчал он. – Только машину помыл…
– Работа.
– Чем промышляешь?
– Расследованиями.
– Ты – сыщик? – В зеркальце снова появились два глаза. – Да брось!