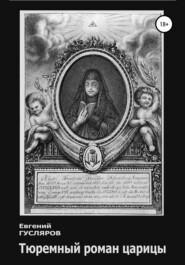По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Левая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Необъяснимое же заключалось в том, что имя переводчика при издании выскочило. «Издано Пушкиным» – гордо заявлял титул. Можно было, ничтоже сумняшеся, принять, что и сам перевод сделан Пушкиным же. Нелепость подоспела как нельзя более кстати. Не Пушкину, конечно, а его врагам. Ещё до того Пушкин был объявлен исписавшимся. И вот оно налицо – неопровержимое доказательство оскудевшего дарования. В дело вступает лучший юморист своего времени Иосиф Сенковский. Прямо напасть какая-то эти юмористы в России. Вон когда ещё началось чтобы приобрести теперь размах настоящего стихийного бедствия. «Пушкин воскрес! – в непристойном шутовском упоении возглашал Сенковский, – я узнаю его. Это его стихи. Удивительные стихи». «Да и кто, кроме Пушкина, в состоянии написать у нас такие стихи?». Всё это тиражировалось самыми читаемыми журналами того времени. Опять же скажу, что равнодушие к общественному мнению может существовать лишь в качестве мифа. «Хвалу и клевету приемли равнодушно», – твердил себе Пушкин, но это только благое пожелание. Живой человек на это не способен. Даже если знать, что общее мнение возбуждено подлыми приёмами. Пушкин, великий поэт Пушкин опускается до того, что пытается оправдаться перед юмористами. Делает это неловко и неубедительно. Это может подтвердить, что цель убийственного юмора достигнута, он всё более теряет равновесие. «Действие типографического снаряда есть самое разрушительное». Не помню, по какому поводу написал Пушкин эти слова. Он подвергался прицельному обстрелу типографского свинца задолго до пули Дантеса.
К тому времени Пушкин уже получил высочайшее разрешение на издание четырёх первых книг литературного журнала «Современник», которым рассчитывал он поправить вконец расстроенные денежные дела свои. Лучшие силы тогдашней словесности – Жуковский, Гоголь, князь Вяземский, князь Козловский, А.И. Тургенев готовы были участвовать в пушкинском начинании; но не дремали и враги, которых он нажил себе не только в высшем обществе, но также и в ведомстве цензурном, находившемся под управлением графа Уварова, перед тем жестоко оскорблённом известною эпиграммою «В Академии наук» и помещённом в «Московском наблюдателе» стихотворении «На выздоровление Лукулла». «Московский наблюдатель был запрещён, и стеснения грозили только что нарождавшемуся «Современнику».
Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Расчёт Сенковского был безошибочен: он знал, на что «клюнет» широкая публика, и стремился убедить её в том, что поэту плевать на своих читателей. В те дни, когда Пушкин впервые познакомился с рецензией на «Вастолу», он был просто вне себя. Он понимал, что при огромном тираже «Библиотеки» оскорбительные инсинуации Сенковского так или иначе повлияют на мнение широкого круга читателей, тех самых, которых поэт надеялся видеть подписчиками «Современника».
Свидетельства очевидцев и современников. Из материалов к биографии поэта «О Пушкине» Петра Бартенева: «Эта ядовитая выходка достигла своей цели: она раздразнила Пушкина и сделалась предметом толков и пересудов. В числе светских приятелей Пушкина жил тогда в Петербурге богатый молодой человек Семён Семёнович Хлюстин, родной племянник известного американца, Ф.И. Толстого, получивший за границею отличное образование, ученик известного педагога Эванса, участник Турецкой войны 1828-1829 гг., потом подобно И.И. Пущину служивший в Москве надворным судьею и пользовавшийся видным положением в обществе. С Гончаровыми он был давно знаком по Калужской деревенской жизни. Из одного письма Пушкина к его жене видно, что сия последняя прочила Хлюстина в супруги сестре своей. Раздосадованный Сенковским Пушкин неосторожно поговорил с Хлюстиным».
Пушкин неоднократно встречался с Хлюстиным и до ссоры, которая произошла 3 февраля 1836-го года на его квартире во время визита к нему Хлюстина и Григория Павловича Небольсина, редактор некой коммерческой газеты. Он впоследствии вспоминал: «Я не был коротко знаком с Пушкиным и его семейством, поэтому не могу судить о его домашнем быте, но мне случилось однажды быть свидетелем его запальчивости, которая чуть не разразилась дуэлем. Приехав к нему вместе со старым его знакомым, отставным гусаром Хлюстиным, я был принят им по обыкновению весьма любезно и сначала беседа шла бойко, пока не коснулась литературы русской, с которой Хлюстин, живя долго за границей как человек очень богатый, получивший французское воспитание, был мало знаком. Он упомянул между прочим, что Булгарин писатель недурной и романист с дарованием. Это взорвало Пушкина, он вышел из себя и наговорил Хлюстину дерзостей, так что мне пришлось с ним удалиться. Затем между Хлюстиным и Пушкиным завязалась переписка в таких обоюдно оскорбительных выражениях, что только усилия общих знакомых могли предупредить неизбежную между ними дуэль».
Переписка, которая началась и закончилась в течение одного только дня, поможет представить и понять суть произошедшего. Дело было не только в Булгарине.
Из переписки Семёна Хлюстина и Пушкина.
С.С. Хлюстин – А.С. Пушкину: «М. г. Я только приводил в разговоре замечания Сенковского, смысл которых состоял в том, что вы „обманули публику“.
Вместо того, чтобы видеть в том с моей стороны простое повторение или ссылку, Вы нашли возможным почесть меня за отголосок г. Сенковского, Вы в некотором роде сделали из нас соединение, которое закрепили следующими словами: „Мне всего досаднее, что эти люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев, каков Сенковский“. В выражении „эти люди“ разумелся я.
Оскорбление было довольно ясное: Вы делали меня участником „нелепостей свиней и мерзавцев“ <…>.
<…> при взаимности оскорблений, ответное никогда не равняется начальному, в котором и заключается сущность обиды. А между тем… Вы все-таки обратились ко мне со словами, возвещавшими фешенебельную встречу: „Это чересчур“, „Это не может так кончиться“, „Мы увидим“ и т.д. Я ждал доселе исхода этих угроз, но так как я доселе не получил от Вас никаких известий, то теперь мне следует просить у Вас удовлетворения:
1) В том, что Вы сделали меня участником в нелепостях свиней и мерзавцев,
2) В том, что Вы обратились ко мне с угрозами (равнозначащими вызову на дуэль) <…>.
3) В неисполнении относительно меня правил, требуемых вежливостью: Вы не поклонились мне, когда я уходил от Вас.
Честь имею <…>.
Семён Хлюстин. 4 февраля 1836 года. СПБ, Владимирская, 75».
Важно и то, что компромиссное решение в ликвидации ссоры, вырабатывалось не без участия третьих лиц.
Небольсин писал потом: «Только усилия общих знакомых смогли предупредить неизбежную между ними дуэль».
Несколько дней спустя недоразумение между ними было окончательно исчерпано, это следует из того, например, что Пушкин сделал именно Хлюстина своим доверенным лицом в ещё одном деле чести, возникшем чуть ли ни на следующий день после описанного события, на этот раз касающемся В.А. Соллогуба.
Дуэль двадцать девятая (1836). С Владимиром Соллогубом.
История эта завязалась при следующих обстоятельствах. Окончив знаменитый университет в Дерпте, граф Владимир Александрович Соллогуб, в будущем, известный беллетрист, только что вернулся в Петербург. Молодому человеку предстояло служить под началом тверского губернатора, и он, воспользовавшись отпуском, с упоением окунулся в вихрь светской жизни: танцевал на балах, ухаживал за дамами. Накануне отъезда в Тверь на званом вечере к Соллогубу подошла Наталия Николаевна Пушкина. Что там за разговор произошёл между ними, теперь не дознаться. Полагают, что она с юмором отнеслась к наметившейся романтической страсти вчерашнего школяра к одной солидной даме. Впрочем, она была не замужем, и Соллогуб будто бы даже и жениться на ней хотел. Соллогуба разговор этот рассердил, он сделал ей какие-то замечания, был неучтив.
Впрочем, попробуем дать слово самому Владимиру Соллогубу. Известен его доклад на эту тему, сделанный в Обществе любителей российской словесности:
«…Я был назначен секретарём следственной комиссии, отправляемой в Ржев, Тверской губернии по случаю совершенного там раскольниками святотатства… Следствие продолжалось долго и было к удивлению ведено исправно. Оно знаменовалось разными любопытными эпизодами, о которых здесь упоминать, впрочем, не место. Самым же замечательным для меня было полученное мною от Андрея (Николаевича) Карамзина письмо, в котором он меня спрашивал, зачем же я не отвечаю на вызов А.С. Пушкина: Карамзин поручился ему за меня, как за своего дерптского товарища, что я от поединка не откажусь.
Для меня это было совершенной загадкой. Пушкина я знал очень мало… решительно ничего нельзя было тут понять, кроме того, что Пушкин чем-то обиделся, о чём-то мне писал и что письмо его было перехвачено… С Карамзиным я списался и узнал, наконец, в чём дело. Накануне моего отъезда я был на вечере вместе с Натальей Николаевной Пушкиной, которая шутила над моей романтической страстью и её предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского, очень благородного и образованного поляка, танцевавшего тогда превосходно мазурку на петербургских балах. Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли. Но присутствующие дамы соорудили из этого простого разговора целую сплетню: что я будто оттого говорил про Ленского, что он будто нравится Наталье Николаевне (чего никогда не было) и что она забывает о том, что она ещё недавно замужем. Наталья Николаевна, должно быть, сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, хотя и знала его пламенную необузданную натуру. Пушкин написал тотчас ко мне письмо, никогда ко мне не дошедшее, и, как мне было передано, начал говорить, что я уклоняюсь от дуэли. Получив это объяснение, я написал Пушкину, что я совершенно готов к его услугам… Я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привёл бумаги в порядок… Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдержать его огонь, сколько ему будет угодно. Пушкин всё не приезжал… Вероятно, гнев Пушкина давно охладел, вероятно, он понимал неуместность поединка с молодым человеком, почти ребёнком, из самой пустой причины, «во избежание какой-то светской молвы». Наконец узнал я, что в Петербурге явился новый француз, роялист Дантес, сильно уже надоевший Пушкину. С другой стороны, он, по особому щегольству его привычек, не хотел уже отказываться от дела, им затеянного. Весной я получил от моего министра графа Блудова предписание немедленно отправиться в Витебск… Перед отъездом в Витебск надо было сделать несколько распоряжений. Я и поехал в деревню на два дня; вечером в Тверь приехал Пушкин… Я вернулся в Тверь и с ужасом узнал, с кем я разъехался… Я послал тотчас за почтовой тройкой и без оглядки поскакал прямо в Москву, куда приехал на рассвете и велел везти себя прямо к П.В. Нащёкину, у которого останавливался Пушкин. В доме все ещё спали. Я вошёл в гостиную и приказал человеку разбудить Пушкина. Через несколько минут он вышел ко мне в халате, заспанный и начал чистить необыкновенно длинные ногти. Первые взаимные приветствия были холодны… Затем разговор несколько оживился, и мы начали говорить об начатом им издании «Современника». «Первый том был слишком хорош, – сказал Пушкин. – Второй я постараюсь выпустить поскучнее: публику баловать не надо». Тут он рассмеялся, и беседа между нами пошла более дружеская, до появления Нащёкина. Павел Войнович явился, в свою очередь, заспанный, с взъерошенными волосами, и, глядя на мирный его лик, я невольно пришёл к заключению, что никто из нас не ищет кровавой развязки, а что дело в том, как бы нам выпутаться всем из глупой истории, не уронив своего достоинства… Спор продолжался довольно долго. Наконец мне было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне. На это я согласился, написал прекудрявое французское письмо, которое Пушкин взял и тотчас же протянул мне руку, после чего сделался черезвычайно весел и дружелюбен…».
Итак, ситуацию спасает друг поэта Нащокин. Конфликт исчерпан. Впоследствии Александр Сергеевич подружится с Владимиром Соллогубом… Пройдёт всего несколько месяцев, и, граф будет секундантом поэта на его первой, несостоявшейся тогда дуэли с Дантесом.
Дуэль тридцатая (1936). С Николаем Репниным.
Об этой истории вскользь упоминается в книге П. Милюкова «Живой Пушкин», изданной в Париже к столетней годовщине со дня рождения поэта. Генерала от кавалерии и члена Государственного совета, князя Николая Репнина Пушкин вызвал на дуэль за то, что тот будто бы сделал где-то нелестное замечание о стихах против графа Уварова «На выздоровление Лукулла». Сама история тут такая: под Лукуллом поэт, это очень понятно было современникам, имел в виду графа Д.Н. Шереметева, заболевшего тогда какой-то опаснейшей болезнью. Его наследником и должен был стать родственник по жене граф Уваров, который, в предвкушении его смерти, опечатал уже всё его имущество, а тот возьми да и выздоровей. Случай трагикомический. Пушкин откликнулся на это. Вот как описывает он предчувствие наследником грядущего счастливого достатка:
…Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах благо есть излишек.
Теперь мне честность – трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казённые дрова!
Некоторый ненужный переполох добавил в это дело профессор Казанского университета, преподаватель греческой, латинской и французской словесности Альфонс Жобар. 13 января 1836 года он написал письмо Уварову, к которому приложил собственноручный перевод «Лукулла» на французский язык и просил разрешения на его публикацию в Брюсселе. Копию этого письма он предусмотрительно отослал Пушкину. 24 марта 1836 года последовал ответ, выдержки из которого говорят о большом смятении в душе Пушкина:
«<…> В письме к г-ну министру народного просвещения вы, кажется, изъявляете намерение напечатать свой перевод в Бельгии с присовокуплением некоторых примечаний, необходимых, по вашему мнению, для понимания стихотворения: осмелюсь умолять вас, милостивый государь, отнюдь этого не делать. Мне самому досадно, что напечатал произведение в минуту дурного расположения духа. Опубликование его вызвало неудовольствие одного лица (Царь через Бенкендорфа приказал сделать Пушкину строгий выговор. – Е.Г.) которого мнением я дорожу, и которым пренебрегать не могу, не оказавшись неблагодарным и безумцем. Будьте добры: удовольствием гласности пожертвуйте мысли оказать услугу собрату. Не воскрешайте своим талантом произведение, которое само по себе впадает в заслуженное забвение».
Милюков так комментирует дуэльные истории последнего пушкинского года: «Тут проявляется уже ясно особый мотив дуэлянта – Пушкин искал смерти. Таково было мнение Хомякова о причинах его смерти; так думал граф Соллогуб, дочь Карамзина (Мещерская); так же высказался и его враг Геккерен: “Ему просто жизнь надоела; и он решился на самоубийство”. Грубая форма и враждебный источник этого суждения не должны мешать нашему согласию с ним, тем более что за несколько дней до смертельного исхода поединка Пушкин высказался в том же смысле старому другу, Евпраксии Вревской, дочери Осиповой. Он сам сказал ей о своём намерении искать смерти и, когда она пыталась успокаивать, “был непреклонен”».
Самоубийство Пушкина
Наступил последний тридцать седьмой год Пушкина. Разительно отличается этот Пушкин от того, которого узнали мы по тем дуэльным эпизодам, которые только что описали. У нас есть возможность увидеть бывшего бесшабашного дуэлянта и задиру глазами близких ему людей, например, за полгода перед его смертью. Невесёлое это зрелище. Его сестра поражена была тогда «его худобой, желтизною лица и расстройством его нервов».
«В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив…» – напишет, знавший, о чём говорит, известный нам граф В.А. Соллогуб.
Где-то в середине того неблагословенного тридцать шестого года свидетели жизни Пушкина, каждый по своим причинам, начинают беспокоиться небывалыми проявлениями его характера, до сей поры несвойственными ему настроениями.
«Вспоминаю, как он, придя к нам, ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял: “грустно! тоска!..”».
«…ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от неё отделаться».
«…сам сообщил… о своём намерении искать смерти».
«Он искал смерти с радостью, а потому был бы несчастлив, если бы остался жив».
Барон Геккерн, нидерландский посланник, чьим приёмным сыном был убийца Пушкина Дантес, хоть и смертный враг нам, но нельзя по этой причине отнимать у него свойственную умным дипломатам проницательность. Вот и он говорил: «Ему просто жить надоело, то-то он и бесится и смерти ищет…»
Тема примирения со смертью пришла в его стихи. Он стал думать о ней торжественно.