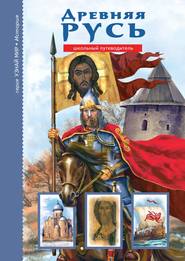По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Толпа героев XVIII века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Александр Меншиков: проделки неверной фортуны
Весной 1728 года опальный светлейший князь, президент Военной коллегии, почетный академик Британской академии, кавалер множества российских и иностранных орденов, генералиссимус Александр Данилович Меншиков с семьей – женой, сыном и двумя дочерьми – был отправлен из своего липецкого поместья Раненбурга в вечную ссылку в Сибирь. Не успели ссыльные проехать и десяти верст, как их нагнал нарочный из Петербурга и остановил убогую повозку. Начался последний обыск. Таково было высочайшее предписание: не дать опальному князю увезти с собой ничего лишнего сверх положенного по инструкции. И действительно, «лишнее» тотчас нашли, отобрали и внесли в особый протокол: «шлафрок ношеный – 1», «чулки касторовые, ношеные – 1», «скатерти – 4». У женщин отняли нитки с иголками, лоскуты материи для шитья – не положено! Напоследок самого Меншикова обыскали и забрали у него ветхий кошелек, в котором лежали 59 копеек. Это были последние деньги еще вчера самого богатого человека России. Так, совершив головокружительный взлет к вершинам власти, богатства и могущества, Меншиков стремительно низринулся вниз.
Впервые имя Александра Меншикова упоминается в документах в 1698 году. Иностранцы писали о нем как о «царском фаворите Алексашке из низшего рода людей». Никто не может сказать точно, происходил ли светлейший из простолюдинов или из знатного польского рода Менжиков. Не будем рыться в родословных книгах, скажем прямо: человек в России независимо от происхождения обретает свое значение только тогда, когда он в фаворе. В конце 1680-х годов Алексашка приглянулся юному Петру I, и это решило судьбу будущего генералиссимуса – царь сделал его своим денщиком, привязался к нему.
Царский денщик – должность по тем временам исключительно важная. Это слуга, порученец, телохранитель, сподвижник, собутыльник. Но и среди денщиков Меншиков сразу же занял особое место при государе, который в письмах называл его ласково Алексашею, Mein Herzenkind («Дитя моего сердца»). Нет сомнений, Петр любил Меншикова, делил с ним стол, вечную свою дорогу, трудности и, чего греха таить, – постель. Об этом есть свидетельства документов.
Но не будем все сводить к постели. Меншиков был по-настоящему талантлив. Он оказался тем человеком, тип которого культивировал Петр: предан государю, усерден в учебе, отважен в бою, влюблен в море и корабли, неутомим в работе, стоек в беспрерывных попойках, покладист и необидчив в общении. Впрочем, и этого мало для подлинно успешной карьеры – нужны яркие поступки. И вот при взятии шведской крепости Нотебург (Орешек) осенью 1702 года Меншиков проявил себя как отчаянный смельчак. На глазах царя он в белой распахнутой на груди рубахе отважно лез в самый огонь. Так, в качестве трофея, Меншиков взял свое первое кресло – стал комендантом этой крепости, переименованной в Шлиссельбург, срочно ее отремонтировал, словом, доказал на деле, что не зря пользуется благосклонностью государя. В 1703 году он был назначен первым генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Из писем Меншикова видно, что он на своем месте: умен, деловит, памятлив, инициативен, строг к подчиненным. Таких людей было мало, и Петр их особенно ценил, прощал им многие их прегрешения.
Ну а кто без греха! Выскочка Меншиков жадно искал людского признания, богатств, чинов, титулов и наград. Его драгоценную одежду (такие кафтаны носили только датский да английский короли!) буквально покрывал панцирь из сверкающих орденов и бриллиантов. А как он, умевший только расписываться большими и корявыми буквами, нахально выпросил у президента Британской академии Исаака Ньютона звание почетного академика?
Но не только гордыня сжигала Меншикова. Он был нечист на руку, оказался редкостным даже для России стяжателем и казнокрадом, благодаря чему скопил невероятные богатства. Много раз светлейшего специальные следственные комиссии ловили за руку, но от эшафота и кнута его спасали любовь царя и умение раскаяться, добровольно сдать в казну все, что было им наворовано. Впрочем, может быть, здесь была своеобразная игра. Некоторые считали, что, используя ненасытность Меншикова, Петр таким образом изымал дополнительные средства у своих подданных, одновременно делая Данилыча своеобразным громоотводом. Все были недовольны сановником-хапугой, а вот приходил царь, отбирал у него наворованное – и общество успокаивалось. Словом, как говорится, добро торжествует, порок наказан.
На поле боя Меншиков отличался не раз. Он обладал талантом полководца, был отличным кавалеристом – смелым, горячим. Это было как раз по нему: мчаться сломя голову вперед на врага и рубить его в капусту. Велика роль меншиковской кавалерии в победе над шведами в 1709 году под Полтавой и под Переволочной, куда бежали разбитые шведские полки. Именно там светлейший и пленил остатки армии Карла XII. Постигший воинское искусство из-за плеча склонившегося над картами царя, именно в тот момент Меншиков проявил себя отважным и хитрым одновременно. Чтобы обмануть шведов, превосходивших числом настигший их у Днепра русский отряд, он ссадил кавалеристов с лошадей. Издали врагу показалось, что их нагоняет не только русская кавалерия, но и пехота. В итоге 16 тысяч шведов сдались 10-тысячному корпусу Меншикова.
После Полтавы Меншиков воевал недолго: во время кампании в Германии, где он в союзе с датчанами и пруссаками выбивал шведов из их померанских крепостей, разразился грандиозный скандал. Заняв одну из важных шведских крепостей, Меншиков не передал ее, как было заранее оговорено, датчанам, а продал за миллион талеров прусскому королю – тот давно собирал под свою корону германские земли. Словом, в Копенгагене рвали и метали по поводу «коммерческого предприятия» русского командующего. Петр был вынужден отозвать светлейшего, наверняка и деньги у него отобрал! Возможно, это так и было задумано, но с тех пор Меншиков стал невыездным. Может, чтобы его датчане не обидели или Фридрих I Прусский не задушил своего благодетеля в объятиях.
Впрочем, сам светлейший за границу особенно не рвался – дел и на родине было много. Он осел в Петербурге, в своем роскошном дворце на берегу Невы. Каждое утро, еще в темноте, он, бессменный генерал-губернатор новой российской столицы, спешил на стройки, верфи – всюду был нужен его пригляд. Лучше Меншикова свой «парадиз» знал только сам государь. Вечером, возвращаясь домой, Меншиков с реки любовался своим дворцом, сверкавшим на закатном солнце множеством окон. Во всем облике этого стоявшего на самой кромке Васильевского острова дворца, с его видной издалека красной крышей, крытой железом, в роскошных празднествах, которые часто устраивал здесь светлейший, – словом, всюду была видна печать необыкновенной личности Меншикова. Это был человек яркий, амбициозный, живший щедро, с размахом, с демонстративным желанием поражать гостей своим богатством, шальным счастьем через край. Истинно «новый русский»!
В этом дворце на берегу Невы он и свил свое гнездо: женился по любви на дворянке Дарье Арсеньевой, нажил с нею троих детей и был здесь вполне счастлив. Уезжая в походы и странствия, в уютном доме Данилыча оставлял своих детей даже сам Петр. Он знал, что, бегая вместе с детьми Меншикова по просторным залам дворца, его наследники будут в полной безопасности, а если что случится с ним в походе, верный Данилыч не оставит царских детей в беде.
Но не всегда небо было безоблачно над княжеским гнездом. Порой Петр бывал суров к светлейшему, все аферы, «жульства» и махинации которого быстро становились ему известны, и в 1723 году Меншиков ощутил растущее раздражение государя, уставшего подтирать за непрерывно гадившим любимцем. Но на этот раз за Данилыча вступилась жена Петра, царица Екатерина – бывшая любовница Меншикова. Как уже сказано выше, их связывало нечто большее, чем память о поросшем быльем романе. Они, простолюдины, были одиноки в толпе родовитой знати, держались друг за друга, боясь пропасть поодиночке.
Когда в январе 1725 года Петр Великий умер, не оставив завещания, Меншиков отблагодарил свою «давнюю подругу сердца», помог ей стать императрицей Екатериной I. Но покоя светлейшему по-прежнему не было. Государыня много болела, и родовитая оппозиция, сгруппировавшаяся вокруг великого князя Петра, сына покойного царевича Алексея, нетерпеливо ждала своего часа. Весной 1727 года этот час приблизился – императрица уже не вставала с постели. Накануне смерти Екатерины I Меншиков опередил всех. По его настоянию государыня завещала престол Петру Алексеевичу, но при условии, что невестой царя станет дочь светлейшего – Мария. Так и вышло. Сразу после смерти Екатерины I семнадцатилетняя Мария и Петр II, которому не исполнилось еще и двенадцати, обручились. Это был триумф Меншикова. Пусть не он, но его дочь, кровь его, взойдет на российский трон, а он уж как-нибудь поможет на первых порах молодоженам управлять Россией!
Впрочем, Александр Данилович не спускал глаз с Петра II, держал мальчика при себе, даже поселил его в своем дворце. Неподалеку поспешно начинают строить императорский дворец. Меншиков мечтает, чтобы молодожены поселились в новых хоромах. Но неожиданно летом 1727 года Меншиков серьезно заболел и поневоле ослабил свой контроль за «карманным царем». Петр посидел раз-другой у постели будущего тестя, а за окном было прелестное лето… Словом, царь уехал за город на охоту. Там, на просторе, его окружение, в котором было немало тайных врагов временщика, сумело быстро настроить мальчика против надоедливого опекуна. Когда Меншиков поправился, то оказалось, что он проиграл.
В XVIII веке был популярен образ Фортуны, богини счастья, удачи. Она изображалась с повязкой на глазах, едущей на колесе (отсюда выражение «колесо Фортуны»). У сей девы была очень странная прическа – спереди длинный чуб, а темя и затылок лысы и гладки, как бильярдный шар. Схватить Фортуну за чуб – высшая доблесть для царедворца. Промедлить тут нельзя, иначе рука скользнет по лысине, и все пропало – укатит, хохоча, чертовка, не догонишь! Власть, как известно, любит только здоровых. Светлейший заболел, прозевал момент, словом, он промахнулся, и Фортуна укатила к другим, молодым и здоровым. Юный император не желал больше видеть своего опекуна и противную, старую (почти восемнадцатилетнюю!) невесту. И вмиг всех, кто подобострастно лебезил и заискивал перед могущественным временщиком, за честь почитая навестить его и сыграть у его постели партию-другую в шахматы или картишки, как ветром сдуло…
И Меншиков разом сник, сдался на милость победителей, этих пигмеев, окружавших царский трон. В чем тут дело? Почему он не прибег к помощи любимой им гвардии, не стукнул кулаком в Верховном тайном совете, не прикрикнул на членов Синода? Пожалуй, истинную причину произошедшего со светлейшим понял, глядя на толпу придворных, французский дипломат Шетарди: «Знатные только по имени, в действительности же они были рабы». Стоило мальчишке-царю – подлинному господину этой толпы рабов – топнуть ногой, нахмурить брови, и душа в пятки уходила даже у самых гордых вельмож. Словом, Меншикова лишили всех богатств, орденов, титулов и выслали в Раненбург, а потом в Сибирь. Александр Данилович не сопротивлялся – он сам без счета безжалостно топтал людей и знал повадки властителей. Только раз, во время начатого в Раненбурге следствия, он возмутился. Его, победителя в Северной войне, пытались обвинить в государственной измене, в связях со шведами в ущерб России. Но набрать компромата на героя войны со шведами ни следователям, ни русскому послу в Швеции Н.Головину все-таки не удалось. Впрочем, и такие обвинения у нас обычны. Так, совершив ошеломительный взлет из грязи в князи, Меншиков снова плюхнулся в грязь.
По дороге в Сибирь, не вынеся позора и горя, умерла его жена Дарья. Говорят, что Меншиков сам выкопал для нее могилу. А потом ссыльные приехали в Березов. Эти места теперь всем известны: примерно там находится «нефтяной Клондайк» – Сургут, куда «только самолетом можно долететь». Березов – заполярное место на берегу вечно холодной реки Сосьвы, глухое и печальное. Меншиков со слугами срубил себе дом. Он много молился в построенной им церкви и, наверное, как на известной картине Василия Сурикова, долгими вечерами сидел, кутаясь в халат, вспоминал прошлое, слушал, как дочери читают Библию.
В светлый праздник Рождества 1728 года, в самый день своего восемнадцатилетия, на руках у отца умерла Маша, «разрушенная невеста» Петра II, девочка, которой не суждено было стать царицей. Год спустя, в ноябре 1729 года, смерть пришла и за Александром Даниловичем. Он был похоронен возле своей церкви, в вечной мерзлоте. Сто лет спустя его могилу вскрыли – светлейший, покрытый тонкой коркой льда, лежал в гробу как живой. А потом тот берег реки Сосьвы, где стояла церковь, обрушился, и прах Меншикова унесло половодьем. Он уплыл от людей, будто по волнам Леты – реки времени и забвения.
Мария Гамильтон: прелестная головка в банке со спиртом
На иллюстрации – Ассамблея при Петре I. 1861. Неизвестный литограф по рисунку А.И.Шарлеманя. Фрагмент.
Согласно легенде, во время визита Петра Великого в Копенгаген в 1716 году датский король Фредерик IV, расслабившись после обильного обеда, спросил царя: «Ах, брат мой! Я слышал, что и у Вас есть любовница?» Петр помрачнел: «Брат мой! Мои потаскухи обходятся недорого, а Ваши стоят тысячи фунтов, лучше их на войну со шведами тратить…» Здесь, как во многом другом, Петр был последователен: интересы государства – прежде всего. Как вспоминал личный токарь царя Андрей Нартов: «Впущена была к Его Величеству в токарную присланная от императрицы комнатная ближняя девица Гамильтон, которую, обняв, потрепал рукою по плечу, сказал: “Любить девок хорошо, да не всегда, инако, Андрей, забудем ремесло”. После сел (за станок) и начал точить». Словом, как пели в советские времена: «Первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом…»
О любвеобильности царя-реформатора известно много. Современник косноязычно, но весьма прозрачно выражался о павианских наклонностях Петра: «Великий монарх никогда не отказал быть себя от плотского сластолюбия преодолена». Даже в поездки Петр брал с собой небольшой гарем метресс – так называли девиц легкого поведения, которые не перевелись в окружении Петра и с женитьбой царя на Екатерине. Но Екатерина нашла единственный удобный для себя способ поведения: она не преследовала мужа бесполезной ревностью, а… сама поставляла ему метресс. 18 июня 1717 года Петр писал жене из Спа, где он пил воды: «Иного сообщить отсюда нечего, только что мы сюда приехали вчера благополучно, а так как во время питья вод домашние забавы (то есть секс. – Е.А.) доктора употреблять запрещают, поэтому я метрессу свою отпустил к Вам, ибо не мог бы удержаться, если бы она при мне была». 3 июля Екатерина отвечала, что отсылка метрессы случилась явно не по требованию докторов, а потому, что она заболела нехорошей болезнью «и не желала бы я (от чего Боже сохрани!)», чтоб и любовник этой метрессы приехал бы в таком состоянии, в каком она приехала. То, что в отношениях супругов существовала и такая грань, многое говорит о Екатерине. Признавая и даже поощряя супружескую свободу, Екатерина как бы срывала полог тайны, за которым, пользуясь любострастием царя, могла усилиться ее возможная соперница. Ведь тайны любовных встреч часто предполагают тайну сердец. А вот этого как раз и не нужно было Екатерине, и поэтому она сделала «институт метресс» вполне легальным в их супружеской жизни с Петром.
Впрочем, и знатные дамы не оставались для царя недоступными. В принципе, российские самодержцы пользовались не только абсолютной властью, но и исключительной сексуальной свободой. Так продолжалось, пожалуй, до времен Александра III – однолюба и строгого моралиста. А до этого ни одна дама не могла отказать государю… Впрочем, Петр исповедовал принцип: «Живу сам и даю жить другим». Он не был строг и к половой свободе своих подданных, даже поощрял внебрачные связи. И здесь, как во многом другом, он исходил из интересов государства. Сохранился рассказ о том, как Петр защищал от нападок односельчан девушку, принесшую в подоле дитя от понравившегося ей иностранца. Погладив по головке рожденного в грехе бастарда, царь наставительно сказал: «Великое дело! Она ничего худого не сделала! А этот малый со временем будет солдат!» Указом 1715 года в государстве были учреждены больницы для содержания «зазорных младенцев, которых жены и девки рождают беззаконно и, стыда ради; отметывают в разные места, отчего оные младенцы безгодно помирают». Действительно, были известны многочисленные случаи, когда детей оставляли на помойках или подбрасывали под двери чужих людей. Регулярные, по мере заполнения, чистки нужников в женских монастырях приводили к страшным находкам и вызывали шок видавших виды золотарей. Приметим употребленное в указе слово «безгодно», то есть без выгоды, бесполезно для общества. И далее, как всегда в указах Петра, слышен грозный государственный рык: «А ежели такие незаконно рождающие явятся в умерщвлении тех младенцев, и оные за такие злодейства сами казнены будут смертию».
Собственно, все вышесказанное имеет прямое отношение к истории девицы Марии Гамильтон. По одной версии, она происходила из древнего шотландского рода, еще в XVII веке выехавшего в Россию, по другой – Марья Гамонтова (так переделали иностранную фамилию в России) являлась родственницей какого-то пленного шведского генерала. Как бы то ни было, примерно с 1715 года Мария Даниловна Гамильтон, девушка ладная и красивая, оказалась в окружении жены Петра Великого Екатерины Алексеевны, приглянулась ей и вошла в ее ближний круг. Позже стало известно, что она иногда даже ходила в нарядах царицы, а также имела доступ к ее драгоценностям и даже брала украшения без спросу или, как считали позже следователи по ее делу, попросту подворовывала их у госпожи. Марья состояла в комнатных ближних девицах (или в «девушках с верьху»), которых порой на западный манер стали называть камер-фрейлинами. В то переходное время, когда старая система старинных придворных чинов уже была разрушена, а новая еще не сложилась, двор Петра более напоминал собрание разношерстной дворни, состоял по большей части из денщиков царя и комнатных девиц царицы, более похожих на сенных девок. Гамильтон была одна из них: нарядившись в платье госпожи, она присутствовала на церемониях, а потом, как простая служанка, выносила царицыны ночные горшки. Не приходится сомневаться и в том, что Мария была любовницей самого царя, не пропускавшего ни одной юбки. При этом при дворе царя господствовало пьянство, зачинщиком которого бывал сам Петр, спаивавший своих приближенных. Женщины во главе с царицей также участвовали в разгульном, подчас безобразном веселье царя. Главными «героинями» попоек при дворе были Авдотья Чернышева по кличке Авдотья – Бой-баба и княгиня Настасья Голицына – старая горькая пьяница и шутиха. В придворном журнале Екатерины I мы читаем, что императрица, Меншиков и другие сановники обедали в зале и пили английское пиво, «а княгине Голицыной поднесли второй кубок, в который Ее Величество изволила положить 10 червонцев». Иной читатель спросит: что это значит? А значит это только одно – получить золотые монеты Голицына могла, только выпив огромный кубок целиком. По записям в книге видно, что княгиня была стойким и мужественным борцом с Бахусом, но бывали и неудачи – Бахус оказывался сильнее, и под общий смех присутствующих княгиня пьяной валилась под стол, где уже дремало немало других неосторожных гостей императрицы.
К описываемому времени царь отдалился от Марии Гамильтон (вспомните разговор царя с токарем Нартовым в токарне), и у нее начался тайный роман с одним из царских денщиков – Иваном Орловым, парнем молодым и красивым. Сам по себе Иван Орлов был личностью заурядной, недалекой, как говорится, «без царя в голове» – ветреным и непостоянным. Роман же с Марией был смертельно опасен как для Орлова, так и для Гамильтон, но в этом-то, как бы сейчас сказали, заключался особенный драйв: чтобы спать с любовницей грозного царя, нужно быть не просто хорошим мужиком, но орлом (вспомни, читатель, роман героя рассказа Фазиля Искандера с любовницей самого Берии!)…
Денщики Петра, как сказано выше, – особая группа приближенных царя. Обычно их было человек пять-десять. Они не только чистили царские сапоги и одежду, спали, подобно дворовым в помещичьих домах, у порога его спальни, но и выполняли порой серьезные поручения. Некоторых царь посылал с секретными заданиями в губернии и даже за границу. Для Петра обычно был неважен формальный статус порученца – главное, чтобы он был толковый человек и пользовался доверием государя. Многие из денщиков царя потом вышли в люди, причем в большие люди: денщик Алексашка стал генерал-фельдмаршалом (а потом и генералиссимусом) светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым, восемнадцатилетний денщик Пашка стал графом – генерал-прокурором, «оком государевым». Но все они в своем денщичестве обычно были такие же, как Иван Орлов, молодые, ражие парни. Они жили во дворце, рядом с царем, и, естественно, крутили любовь с девицами из ближнего окружения царицы Екатерины, другими придворными дамами и служанками. И как только государь отправлялся спать, денщики принимались шуметь, гоготать, тискать по углам и переходам царицыных ближних девиц. Этот шум беспокоил Петра, и, согласно одной из легенд, он стал запирать денщиков на ночь в голландские спальные шкафы, которые понастроили для царя, безмерно любившего все голландское. В этих шкафах, на разложенных перинах, голландцы спали полусидя-полулежа, что считалось лучшим способом избежать внезапного сердечного приступа или инсульта – удара. Кроме того, таким образом в доме экономили место. Как-то раз ночью Петру понадобился денщик, он пошел с ключом к шкафам, но все они оказались пусты… Тогда царь якобы сказал в раздражении: «Мои денщики летать начали через замки, как комары, завтра я им крылья обстригу дубиною». Где же проводили ночи денщики, в том числе Иван Орлов, можно только догадываться…
На дворе стояла весна 1718 года – время страшное. Как раз Петр расследовал дело своего сына царевича Алексея, в застенках Тайной канцелярии лилась кровь пытаемых, писали доносы, устраивались свирепые публичные казни, шли новые аресты, всюду искали врагов. Орлов тоже решил отличиться и подал Петру донос на каких-то людей, собиравшихся по ночам в компании. Царь сунул донос в сюртук, чтобы почитать писание своего денщика на следующий день, на свежую голову. Бумага же провалилась за подкладку камзола, и царь, утром хватившись и не найдя доноса, рассвирепел – он решил, что Орлов передумал и тайно выкрал донос из кармана.
Посланные за Орловым его нигде не нашли: он, бежав из шкафа, кутил в городе, в каком-то неизвестном дворцовым служителям кабаке, а может быть, ночевал у какой-то девицы. Отсутствие денщика вызвало новый приступ ярости подозрительного царя: он помнил, как один из его денщиков – тайный доброжелатель опального царевича Алексея, прочитав из-за спины государя указ об аресте сторонников царевича, сразу же побежал предупредить своих приятелей об опасности. Когда же, наконец, Орлова вытащили из какого-то «вольного дома», где он проводил ночь, и приволокли к царю, бумага уже обнаружилась за подкладкой. Но Орлов, не зная сути дела, страшно испугался. Увидав грозного царя, он так струсил, что сразу же повалился в царские ноги и чистосердечно признался (всё по Фрейду!): «Не казни, государь, виноват, сожительствовал с Марьей Гамонтовой». Слово за слово, и Орлов рассказал о своем «амуре» с фавориткой царя и между прочим признался, что Гамильтон имела от него двоих детей, родившихся мертвыми.
Царь насторожился: он вспомнил, что год назад при чистке дворцового нужника, в выгребной яме нашли трупик ребенка, завернутый в дворцовую салфетку, а совсем недавно в Летнем саду, у фонтана, утром вновь обнаружили тельце еще одного мертвого младенца в салфетке с вензелем Петра… Словом, позвали Марию Гамильтон, царь ее допросил – он был известный мастер сыска. После этого Марию, Орлова и всех причастных к делу слуг отправили в крепость.
Колесо машины сыска, скрипя, закрутилось: начались допросы и очные ставки, а потом и «виска» – дыба и кнут. В петровском застенке ломали волю и не таким нежным, как Мария, созданиям. На пытках под кнутом она призналась, что двоих зачатых ею детей она вытравила каким-то снадобьем, а третьего убила. В записи очной ставки Гамильтон со служанкой Екатериной, которая помогала тайным родам госпожи, сказано: «Жинка Катерина уличает, что, конечно, младенца задавила Марья таким образом: как она родила над судном, засунула тому младенцу палец в рот и подняла его [младенца] и придавила. А девка Марья [на очной ставке] сказала, что того младенца задавила она и в том и во всем виновата», а потом приказала служанке куда-нибудь выбросить тело. Иван же Орлов обо всем этом ничего не знал. Эти показания и привели саму Марью на эшафот, но спасли Орлова от казни, ибо, согласно закону, «ежели холостой человек пребудет с девкою, и она от него родит, то оный на содержание матери и младенца, по состоянию его и платы, нечто имеет дать (по-современному говоря, платит алименты. – Е.А.), и сверх того тюрьмою и церковным покаянием имеет быть наказан, разве что он потом на ней женится и возьмет ее за сущую жену, и в таком случае их не штрафовать». Собственно, Иван Орлов мало чем отличался от самого Петра Великого, долго блудно сожительствовавшего с лифляндской девкой Мартой Скавронской, народившей от царя множество бастардов, или, как тогда говорили, выблядков. Но все же различие между ними было существенное: сожительница Петра рожденных от царя детей в ночном судне не топила.
В ноябре 1718 года Марии Гамильтон был вынесен приговор: «Великий государь… Петр Алексеевич, будучи в канцелярии Тайных розыскных дел, слушав вышеписанного дела и выписки, указал: девку Марью Гамонтову, что она с Иваном Орловым жила блудно и была от того брюхата трижды и двух ребенков лекарствами из себя вытравила, а третьего удавила и отбросила, за такое ее душегубство, также она же у царицы государыни Екатерины Алексеевны крала алмазные вещи и золотые, в чем она с розысков повинилась, казнить смертию». Вообще-то согласно Уложению 1649 года муже– и детоубийц живыми «закапывали в землю по титьки, с руками вместе и отоптывали ногами». И если на улице было тепло, а стража вовремя отгоняла голодных псов, готовых разодрать жертву, то мучения несчастной затягивались на недели. Вот типичное доношение о такой казни, пришедшее в Брянскую воеводскую канцелярию: «Сего 1730 года, августа 21-го дня в Брянске, на площади, вкопана была крестьянская жонка Ефросинья за убийство до смерти мужа ее. И сего сентября 22-го дня оная женка, вкопанная в землю, умре». Следовательно, несчастная прожила в земле больше месяца! Но Марию Гамильтон ждала другая смерть.
После вынесения приговора многие из близких Петру людей пытались умилостивить его, упирая на то, что, мол, девица поступала бессознательно, с испуга, что ей стыдно и она покаялась. Более других хлопотали за Марию сама царица Екатерина Алексеевна и вдовствующая царица Прасковья Федоровна. Последняя даже пригласила царскую семью к себе в гости и пыталась в непринужденной застольной беседе уговорить царя помиловать Марию. Но Петр был непреклонен: проливший невинную человеческую кровь должен умереть, закон должен быть исполнен, и он-де не в силах его отменить. Причем царь был так решителен, что, почувствовав его гнев, старая царица постаралась «шуточным прикладом речь свою замять». В другом случае, когда вновь стали просить за Марию, царь вспомнил историю другого своего денщика, Васьки Поспелова, который женился на брюхатой от него фрейлине, и ничего! Причем невеста еле ходила вокруг аналоя, и в этот день царь гулял на свадьбе, а назавтра он участвовал уже в крещении новорожденного младенца, одобряя со смехом супругов за похвальную быстроту в производстве слуг Отечества.
Все ходатаи и просители за Марию, выслушивая рассуждения и шутки государя, понимали, что дело не в бессилии самодержца изменить подвластные ему законы и не в примере Поспелова. Просто все знали, что младенцы, убитые Гамильтон, возможно, были детьми самого Петра, и именно этого, как и измены за его спиной, царь не мог простить своей бывшей фаворитке.
14 марта 1719 года преступницу возвели на эшафот, устроенный на Троицкой площади. Она же все еще продолжала верить, что государь ее помилует. Чтобы разжалобить монарха, Гамильтон облачилась в праздничное, белое платье с черными лентами и, когда появился Петр, встала перед ним на колени. Государь помилования ей не объявил, но обещал, что рука палача ее не коснется – известно, что во время казни палач грубо хватал казнимого, обнажал его и кидал на плаху… Гамильтон и окружающие замерли в ожидании окончательного решения царя. Он что-то прошептал на ухо палачу, и тот вдруг взмахнул широким мечом и в мгновение ока отсек голову стоящей на коленях женщине. Так Петр, не нарушив данного Марии обещания, заодно опробовал привезенный с Запада особый палаческий меч – новое в России орудие казни, впервые тут использованное вместо примитивного и грубого топора.
Современники писали, что после казни государь поднял голову Марии за ее роскошные волосы и поцеловал в неостывшие еще губы, а затем стал объяснять своим помертвевшим спутникам особенности кровеносных сосудов, питающих мозг человека. После показательного урока анатомии голову Марии было приказано заспиртовать в Кунсткамере, где она и пролежала полвека в банке вместе с монстрами коллекции первого русского музея. В 1780 году директор Санкт-Петербургской академии наук княгиня Е.Р.Дашкова, наводившая порядок в этом учреждении, заметила, что в Кунсткамере идет большой перерасход спирта. Обычно грешили на служащих, которые, подобно служителям зоопарка, экономившим мясо на зверях, спирт в экспонаты недоливали, а в расход его, тем не менее, писали. Чтобы это безобразие прекратить, спирт для экспонатов коллекции Рюйша (знаменитая коллекция монстров в банках) настаивали на лютом черном кайенском перце, затруднявшем его потребление любителями хмельного. А тут выяснилось, что спирт расходуется на какие-то две головы, которые хранятся в подвале, в закрытом сундуке. Выяснилось также, что в банках находятся головы Виллима Монса и Марьи Гамильтон. Дашкова донесла о страшной находке императрице Екатерине II. Та приказала доставить банки во дворец, рассмотрела их, подивилась тому, что лицо Марии еще сохранило следы красоты, и распорядилась головы где-нибудь закопать, что и было исполнено.
Впрочем, у этой истории есть свое продолжение. Один из иностранцев, побывавших в Кунсткамере в 1830 году, рассказывал, что посетители, развесив уши, слушали рассказ сторожа о том, что некогда государь Петр Великий приказал отрубить голову самой красивой из своих придворных дам и заспиртовать ее, чтобы потомки знали, какие же красивые женщины родятся на Руси, и при этом показывал на заспиртованную в банке голову двенадцатилетнего красивого ребенка с нежным лицом и длинными ресницами, а потом за рассказ получал двугривенный «на водку».
Любопытно, что история Марии Гамильтон неожиданно аукнулась и за границами России. В Шотландии, на родине предков Марии, в народе была сложена баллада, которая сохранилась в записях великого шотландского романиста Вальтера Скотта. Героиня баллады Мария Гамильтон заворачивает в фартук рожденного от царя ребенка и бросает его в бурное море – времена наступили уже романтические, про ночное судно упоминать было невозможно…
Цесаревна Анна Петровна: жизнь и смерть шкиперской дочки
В этот, как обычно в Петербурге, хмурый день 12 ноября 1728 года с покойной шкиперской дочкой Анной Петровной пришли проститься сотни петербуржцев. Это были в основном корабельные мастера, офицеры, моряки – словом, верные товарищи и сослуживцы великого русского корабельного мастера и шкипера Петра Михайлова, более известного миру как Петр Великий… За много лет до этого дня там же, в Петербурге, в феврале 1712 года, в скромной тогда Исаакиевской церкви проходил обряд венчания. Два десятка моряков и их принарядившиеся жены толпились в тесном пространстве деревянного храма. Со стороны казалось, что это обычная свадьба жителя Адмиралтейской слободы новой русской столицы – шкипера, мастера или артиллериста. На самом деле венчался русский царь Петр Алексеевич и его давняя боевая подруга Екатерина Алексеевна. Как известно, брак Петра I и Екатерины долго не был освящен церковью. И вот в 1712 году царь решил узаконить свой начавшийся еще в 1703 году сердечный союз с Екатериной. Присутствовавшие на церемонии венчания в церкви увидели любопытную сцену. Жених и невеста шли вокруг аналоя, а за ними, держась за юбку матери, неуклюже топали две маленькие прелестные девочки. Старшей, Анне, было четыре, а младшей, Елизавете, три года от роду. Так были узаконены, или, как говорили тогда, «привенчаны» любимые дочери Петра, хотя мстительная народная память этой истории не забыла, и не раз в толпе императрицу Елизавету Петровну называли «выблядком», родившимся до брака, «в блудстве». Но Петру, как и в других делах, было наплевать на мнение народа, для которого он всегда держал наготове толстую палку. Понять, что в Исаакиевской церкви венчали царя, можно было только по тому, что гости дружной гурьбой отправились не в аустерию «Четыре фрегата», а в новопостроенный Зимний дворец, позже даже названный «Свадебным». Словом, этот февральский день 1712 года царь провел так, как и мечтал: пригласил приятных ему гостей, венчался в уютной церкви его родного морского ведомства, а потом, опередив всех, помчался в санках в свой еще пахнущий краской и свежим деревом дворец и вошел в большой зал, стены которого были завешены фламандскими шпалерами: дивные леса, могучие купы деревьев, мягкие, сглаженные вершины холмов. Все это расширяло пространство пиршественного зала: казалось, что за окном не мерзостный петербургский февраль, а весна, окрестности Антверпена или Гента и гости Петра собираются на просторной полянке среди округлых фламандских холмов под голубыми небесами – плафон зала был расписан в виде облачного неба, по которому плыли, надув розовые щечки, амуры.
Совсем не иллюзией был большой круглый стол, напоминающий столы современных международных конференций. Он был уже накрыт, когда приехал Петр и вместе со слугами укрепил над столом новую люстру на шесть свечей, которую две недели точил на своем токарном станке из черного дерева и слоновой кости. Потом, когда гости расселись вокруг стола, царь, вероятно, как всякий хозяин-умелец, с гордостью посматривал вверх на свое произведение, да еще и хвастался им больше, чем победами над неприятелем или успехами в законодательстве. А рядом в красивом платье сидела и скромно улыбалась его молодая жена.
«Общество было блистательным, – закончил свое донесение о свадьбе великого русского моряка английский резидент Чарлз Уитворт, – вино превосходное, венгерское, и, что особенно приятно, гостей не принуждали пить его в чрезвычайном количестве (как это – добавим от себя – обычно было принято за столом у Петра. – Е.А.)… Вечер закончился балом и фейерверком…»
Таким было первое появление в свете петровских дочерей. Впрочем, впервые Анна упомянута в Журнале Петра Великого 3 февраля 1711 года, когда «у Его царского Величества господа министры (то есть иностранные дипломаты. – Е.А.) все обедали и довольно веселились, понеже в тот день была именинница маленькая царевна Анна Петровна». Это праздновалось трехлетие нашей героини. Девочки росли, окруженные любовью и лаской родителей. Их учили светским манерам, танцам, языкам (Анна знала немецкий, шведский, французский и итальянский языки, и до наших дней дошли написанные ею по-немецки поздравления отцу). Писать девочка начала в восемь лет и подписывала письма «Принцесса Анна», что вызывало бурный восторг царя. В 1717 году Екатерина, бывшая с Петром в заграничном походе, просила старшую дочку «для Бога потщиться: писать хорошенько, чтоб похвалить за оное можно и Вам послать в презент прилежания Вашего гостинцы, на чтоб смотря, и маленькая сестричка (то есть Елизавета. – Е.А.) также тщилась заслужить гостинцы».
Иностранцы, бывавшие при дворе в начале 1720-х годов, поражались необыкновенной красоте подросших царевен. Похожая на отца, высокая, темноглазая, темноволосая, с ослепительно белой кожей, тонким станом, изящными руками, Анна отличалась от блондинки Елизаветы не только внешностью, но и нравом: была спокойнее, рассудительнее, умнее младшей сестры, ее скромность и застенчивость всем бросались в глаза. Как пишет современник, во время христосования на Пасху произошла забавная заминка. Когда знатный иностранный гость – герцог Голштинский – захотел поцеловать четырнадцатилетнюю Анну, она страшно смутилась, покраснела, тогда как младшая, Елизавета, «тотчас же подставила свой розовый ротик для поцелуя». Современники были в восторге от Анны Петровны. Один из них писал: «Это была прекрасная душа в прекрасном теле… она как по наружности, так и в обращении была совершенным его (Петра. – Е.А.) подобием, особенно в отношении характера и ума… усовершенствованным ее исполненным доброты сердцем».
При этом все понимали, что девушки в царской семье всегда династический товар, разменная политическая монета, их выдают замуж за границу, чтобы державе получить с этого «товара» известный политический капитал. А он был так нужен молодой петровской России, только что ворвавшейся под гром победных пушек Полтавы в высшее общество Европы. Это общество было исключительно монархическим, оно напоминало большую недружную семью, чьи члены все состояли в родственных связях, а корни династических дерев европейских монархов переплелись, как корни растущих рядом деревьев. И Петр, женив на инстранке сына Алексея, выдав за герцогов племянниц – Екатерину и Анну, начал переговоры с Версалем: Елизавета Петровна была почти ровесницей юного Людовика XV, и тут явно намечалась выгодная России династическая партия. А о судьбе же старшей дочери, Анны Петровны, император вообще молчал. Видно, жалея любимых дочерей, он все тянул и тянул с их замужеством, вызывая этим недоумение дипломатов и женихов.
Один из них, герцог Голштейн-Готторпский Карл Фридрих, уже три года околачивался в Петербурге в качестве жениха. Первый раз герцог увидел Анну в 1721 году, когда по приглашению Петра прибыл в Россию. Она ему очень понравилась, как, впрочем, и ее младшая сестра. И он долго гадал: какую из дочерей ему дадут в жены – черненькую или беленькую? Обе были прелесть как хороши. Впрочем, все склонялись, что за герцога выдадут Анну, поскольку Елизавету Петр задумал выдать за Людовика XV (хотя, заметим, французам вся эта затея не особенно нравилась – Елизавета, как и Анна, происходила от внебрачной связи царя с простолюдинкой – фи!).
Впрочем, выло заметно, что в брачных переговорах с голштинцами Петр не спешит, казалось, что он проявляет нерешительность. И было от чего: обстановка в Северной Германии, в Голштинии и вокруг нее была непростой, и сказать наверняка, что брак с герцогом принесет пользу России, было невозможно. Все упиралось в так называемый голштинский вопрос. Дело в том, что правители Голштейн-Готторпского герцогства своей главнейшей задачей ставили возвращение отнятой датчанами (союзниками Петра Великого по Северной войне 1700—1721 годов) в самом начале войны герцогской провинции Шлезвиг. Однако положение голштинцев в описываемое время было тяжелым. Собственных сил вернуть Шлезвиг у них не было, тогда как Швеция – главный союзник малолетнего герцога Карла Фридриха (он был сыном старшей сестры и, соответственно, племянником короля Карла XII) – была уже на грани поражения и изнемогала в борьбе с державами Северного союза, среди которых находилась и обидчица голштинцев Дания. А между тем история с заключением русско-мекленбургского политического и династического союза, когда брак герцога Карла Леопольда и Екатерины Ивановны привел к установлению в 1716 году фактического протектората России над Мекленбургом, необыкновенно воодушевляла голштинцев. Они предполагали установление такого же голштино-русского политического и династического союза с тем, чтобы – под русским прикрытием – смело смотреть в будущее и вернуть Шлезвиг. По мнению голштинских дипломатов, союзнические отношения России и Дании недолговечны, в отличие от торговых интересов России как крепнущей морской державы. Развитию же русской торговли в перспективе мешала так называемая зундская пошлина, собираемая датчанами с торговых судов, шедших через Зундский пролив. Поэтому голштинцы носились с планом прорытия стокилометрового канала (будущий Кильский канал), который снял бы для России проблему зундской пошлины. Словом, голштинская дипломатия стремилась втянуть Россию в круг своих интересов, заключить с ней союз, женив Карла Фридриха на одной из дочерей Петра I. Чтобы угодить любознательному русскому монарху, голштинцы расстались со своим знаменитым Готторпским глобусом, увезенным в Петербург.
Но все же главной соблазнительной приманкой для русских считался сам герцог Карл Фридрих. Как племянник бездетного Карла XII, он был наследником шведского престола. Даже после гибели в конце 1718 года Карла XII и начала правления Ульрики Элеоноры шансы Карла Фридриха занять шведский престол оценивались очень высоко. Возможность заполучить в зятья будущего шведского короля должна была, по мысли голштинцев, увлечь русского царя, распространявшего свое господство на Балтике. Но, против их ожиданий, Петр не спешил заключать такой союз. Дело в том, что к тому времени русско-мекленбургский альянс принес России чувствительное поражение и казался назидательным для царя. Дело в том, что вторжение и укоренение России в Северной Германии крайне обеспокоило соседей Мекленбурга, и прежде всего Ганновер, чей курфюрст в 1714 году стал английским королем Георгом I. Давление могущественной Англии и других держав на Россию оказалось столь сильным, что царь вывел из Мекленбурга свои войска, оставив Карла Леопольда на произвол судьбы. С тех пор в своих письмах к зятю и племяннице он ограничивался лишь советами. Повторять же в Голштинии мекленбургский сценарий Петр явно не желал. Война со Швецией еще не закончилась, вмешательство в голштинские дела привело бы к несомненному разрыву с Данией, а главное – к резкому обострению отношений с Ганновером, читай: Великобританией. Могущество же англичан Петр безусловно признавал и уважал. Поэтому он не спешил приступать к заключению династического союза, а лишь, как говорили в XVIII веке, «манил» голштинцев. В этих целях летом 1721 года он и пригласил в Россию герцога Карла-Фридриха как жениха одной из своих дочерей. Когда же герцог настаивал, Петр отвечал ему, что брак этот он ставит в зависимость от разрешения конфликта Голштинии с Данией. Так, в письме 14 апреля 1722 года он писал: «Что же принадлежит о супружестве, то и в том деле я отдален не был, ниже хочу быть, понеже ваше доброе состояние довольно знаю и от серца Вас люблю, но прежде, нежели Ваши дела в лутчее состояние действительно приведены будут, в том обязатца не могу, ибо ежели б ныне я то учинил, то б иногда и против воли и пользы своего Отечества делать принужден бы был, которое мне паче живота моего есть». Иначе говоря, ты мне приятен, но решай свои дела сам, обязательств дать не могу и ввязываться в конфликт не буду, ибо пользы для России не вижу…
Впрочем, Петр не спешил еще и потому, что очень любил дочерей и не хотел с ними расставаться. Сами девицы тоже, как писал не раз упомянутый наблюдательный французский посол Кампредон, «тотчас принимались плакать, как только с ними заговаривали о замужестве». Все это – верный признак счастливой семьи, которую страшит разлука. Возможно, поэтому все дочери (явные невесты на выданье) последнего императора Николая II и Александры Федоровны и погибли вместе с родителями в страшном екатеринбургском подвале.
Зато какие празднества закатывали для дочерей и с их участием в Зимнем доме Петра! Молодежь особенно любила прерывавшие скучное застолье танцы, которые позволяли гостям размяться после многих часов сидения за столом. Танцы устраивались в Большом зале и были обязательны для всех гостей. Обычно сам Петр с Екатериной открывали действо. Начиналось все с медленных, церемонных танцев: «аглинского» (контрданса), «польского», менуэта. Царственная пара отличалась неутомимостью и, бывало, выделывала такие сложные фигуры, что пожилые гости, шедшие за ними и обязанные повторять предложенные первой парой движения, под конец танца еле волочили ноги. Зато молодые были в восторге. Об одном таком эпизоде голштинский придворный Берхгольц пишет, что старики довольно быстро закончили танец и пошли курить трубки да в буфет закусить (в соседних покоях выставлялись столы с закусками), а молодым не было удержу: «Десять или двенадцать пар связали себя носовыми платками, и каждый из танцевавших, попеременно, идя впереди, должен был выдумывать новые фигуры. Дамы танцевали с особенным удовольствием. Когда очередь доходила до них, они делали свои фигуры не только в самой зале, но и переходили из нее в другие комнаты, некоторые водили (всех) в сад, в другой этаж дома и даже на чердак». Словом, танцы открывали неограниченные возможности для волокитства. Правда, разгоряченным танцорам в помещениях дворца, маленьких и тесных, было невероятно душно. Густые винные пары, табачный дым, запахи еды, пота, нечистой одежды и немытых тел (предки наши не были особенно чистоплотны) – все это делало атмосферу праздника тяжелой в прямом смысле этого слова, хотя и веселой по существу.
Когда за окном темнело, все ждали так называемой огненной потехи. Она начиналась в виде зажженной иллюминации: тысячи глиняных плошек с горящим жиром выставлялись на стенах Петропавловской крепости, других сооружений, очерчивая таким образом в темноте контуры зданий. Но все ждали главного – фейерверка. В день тезоименитства (именин) Екатерины его посвятили императрице, и он был устроен прямо перед Зимним домом на льду Невы. Фейерверк тех времен был сложным делом: синтезом пиротехники, живописи, механики, архитектуры, скульптуры и даже литературы и граверного дела – для каждого фейерверка изготавливалась гравюра, которую уснащали пояснениями различных фигур фейерверка и поэтическими надписями. Эти гравюры играли роль современных театральных программок, которые раздавали (но чаще продавали) зрителям. С этими гравюрами-программками в руках зрители (тогда их называли «смотрителями») выходили на крыльцо дворца или смотрели за огненной потехой из окон.
Весной 1728 года опальный светлейший князь, президент Военной коллегии, почетный академик Британской академии, кавалер множества российских и иностранных орденов, генералиссимус Александр Данилович Меншиков с семьей – женой, сыном и двумя дочерьми – был отправлен из своего липецкого поместья Раненбурга в вечную ссылку в Сибирь. Не успели ссыльные проехать и десяти верст, как их нагнал нарочный из Петербурга и остановил убогую повозку. Начался последний обыск. Таково было высочайшее предписание: не дать опальному князю увезти с собой ничего лишнего сверх положенного по инструкции. И действительно, «лишнее» тотчас нашли, отобрали и внесли в особый протокол: «шлафрок ношеный – 1», «чулки касторовые, ношеные – 1», «скатерти – 4». У женщин отняли нитки с иголками, лоскуты материи для шитья – не положено! Напоследок самого Меншикова обыскали и забрали у него ветхий кошелек, в котором лежали 59 копеек. Это были последние деньги еще вчера самого богатого человека России. Так, совершив головокружительный взлет к вершинам власти, богатства и могущества, Меншиков стремительно низринулся вниз.
Впервые имя Александра Меншикова упоминается в документах в 1698 году. Иностранцы писали о нем как о «царском фаворите Алексашке из низшего рода людей». Никто не может сказать точно, происходил ли светлейший из простолюдинов или из знатного польского рода Менжиков. Не будем рыться в родословных книгах, скажем прямо: человек в России независимо от происхождения обретает свое значение только тогда, когда он в фаворе. В конце 1680-х годов Алексашка приглянулся юному Петру I, и это решило судьбу будущего генералиссимуса – царь сделал его своим денщиком, привязался к нему.
Царский денщик – должность по тем временам исключительно важная. Это слуга, порученец, телохранитель, сподвижник, собутыльник. Но и среди денщиков Меншиков сразу же занял особое место при государе, который в письмах называл его ласково Алексашею, Mein Herzenkind («Дитя моего сердца»). Нет сомнений, Петр любил Меншикова, делил с ним стол, вечную свою дорогу, трудности и, чего греха таить, – постель. Об этом есть свидетельства документов.
Но не будем все сводить к постели. Меншиков был по-настоящему талантлив. Он оказался тем человеком, тип которого культивировал Петр: предан государю, усерден в учебе, отважен в бою, влюблен в море и корабли, неутомим в работе, стоек в беспрерывных попойках, покладист и необидчив в общении. Впрочем, и этого мало для подлинно успешной карьеры – нужны яркие поступки. И вот при взятии шведской крепости Нотебург (Орешек) осенью 1702 года Меншиков проявил себя как отчаянный смельчак. На глазах царя он в белой распахнутой на груди рубахе отважно лез в самый огонь. Так, в качестве трофея, Меншиков взял свое первое кресло – стал комендантом этой крепости, переименованной в Шлиссельбург, срочно ее отремонтировал, словом, доказал на деле, что не зря пользуется благосклонностью государя. В 1703 году он был назначен первым генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Из писем Меншикова видно, что он на своем месте: умен, деловит, памятлив, инициативен, строг к подчиненным. Таких людей было мало, и Петр их особенно ценил, прощал им многие их прегрешения.
Ну а кто без греха! Выскочка Меншиков жадно искал людского признания, богатств, чинов, титулов и наград. Его драгоценную одежду (такие кафтаны носили только датский да английский короли!) буквально покрывал панцирь из сверкающих орденов и бриллиантов. А как он, умевший только расписываться большими и корявыми буквами, нахально выпросил у президента Британской академии Исаака Ньютона звание почетного академика?
Но не только гордыня сжигала Меншикова. Он был нечист на руку, оказался редкостным даже для России стяжателем и казнокрадом, благодаря чему скопил невероятные богатства. Много раз светлейшего специальные следственные комиссии ловили за руку, но от эшафота и кнута его спасали любовь царя и умение раскаяться, добровольно сдать в казну все, что было им наворовано. Впрочем, может быть, здесь была своеобразная игра. Некоторые считали, что, используя ненасытность Меншикова, Петр таким образом изымал дополнительные средства у своих подданных, одновременно делая Данилыча своеобразным громоотводом. Все были недовольны сановником-хапугой, а вот приходил царь, отбирал у него наворованное – и общество успокаивалось. Словом, как говорится, добро торжествует, порок наказан.
На поле боя Меншиков отличался не раз. Он обладал талантом полководца, был отличным кавалеристом – смелым, горячим. Это было как раз по нему: мчаться сломя голову вперед на врага и рубить его в капусту. Велика роль меншиковской кавалерии в победе над шведами в 1709 году под Полтавой и под Переволочной, куда бежали разбитые шведские полки. Именно там светлейший и пленил остатки армии Карла XII. Постигший воинское искусство из-за плеча склонившегося над картами царя, именно в тот момент Меншиков проявил себя отважным и хитрым одновременно. Чтобы обмануть шведов, превосходивших числом настигший их у Днепра русский отряд, он ссадил кавалеристов с лошадей. Издали врагу показалось, что их нагоняет не только русская кавалерия, но и пехота. В итоге 16 тысяч шведов сдались 10-тысячному корпусу Меншикова.
После Полтавы Меншиков воевал недолго: во время кампании в Германии, где он в союзе с датчанами и пруссаками выбивал шведов из их померанских крепостей, разразился грандиозный скандал. Заняв одну из важных шведских крепостей, Меншиков не передал ее, как было заранее оговорено, датчанам, а продал за миллион талеров прусскому королю – тот давно собирал под свою корону германские земли. Словом, в Копенгагене рвали и метали по поводу «коммерческого предприятия» русского командующего. Петр был вынужден отозвать светлейшего, наверняка и деньги у него отобрал! Возможно, это так и было задумано, но с тех пор Меншиков стал невыездным. Может, чтобы его датчане не обидели или Фридрих I Прусский не задушил своего благодетеля в объятиях.
Впрочем, сам светлейший за границу особенно не рвался – дел и на родине было много. Он осел в Петербурге, в своем роскошном дворце на берегу Невы. Каждое утро, еще в темноте, он, бессменный генерал-губернатор новой российской столицы, спешил на стройки, верфи – всюду был нужен его пригляд. Лучше Меншикова свой «парадиз» знал только сам государь. Вечером, возвращаясь домой, Меншиков с реки любовался своим дворцом, сверкавшим на закатном солнце множеством окон. Во всем облике этого стоявшего на самой кромке Васильевского острова дворца, с его видной издалека красной крышей, крытой железом, в роскошных празднествах, которые часто устраивал здесь светлейший, – словом, всюду была видна печать необыкновенной личности Меншикова. Это был человек яркий, амбициозный, живший щедро, с размахом, с демонстративным желанием поражать гостей своим богатством, шальным счастьем через край. Истинно «новый русский»!
В этом дворце на берегу Невы он и свил свое гнездо: женился по любви на дворянке Дарье Арсеньевой, нажил с нею троих детей и был здесь вполне счастлив. Уезжая в походы и странствия, в уютном доме Данилыча оставлял своих детей даже сам Петр. Он знал, что, бегая вместе с детьми Меншикова по просторным залам дворца, его наследники будут в полной безопасности, а если что случится с ним в походе, верный Данилыч не оставит царских детей в беде.
Но не всегда небо было безоблачно над княжеским гнездом. Порой Петр бывал суров к светлейшему, все аферы, «жульства» и махинации которого быстро становились ему известны, и в 1723 году Меншиков ощутил растущее раздражение государя, уставшего подтирать за непрерывно гадившим любимцем. Но на этот раз за Данилыча вступилась жена Петра, царица Екатерина – бывшая любовница Меншикова. Как уже сказано выше, их связывало нечто большее, чем память о поросшем быльем романе. Они, простолюдины, были одиноки в толпе родовитой знати, держались друг за друга, боясь пропасть поодиночке.
Когда в январе 1725 года Петр Великий умер, не оставив завещания, Меншиков отблагодарил свою «давнюю подругу сердца», помог ей стать императрицей Екатериной I. Но покоя светлейшему по-прежнему не было. Государыня много болела, и родовитая оппозиция, сгруппировавшаяся вокруг великого князя Петра, сына покойного царевича Алексея, нетерпеливо ждала своего часа. Весной 1727 года этот час приблизился – императрица уже не вставала с постели. Накануне смерти Екатерины I Меншиков опередил всех. По его настоянию государыня завещала престол Петру Алексеевичу, но при условии, что невестой царя станет дочь светлейшего – Мария. Так и вышло. Сразу после смерти Екатерины I семнадцатилетняя Мария и Петр II, которому не исполнилось еще и двенадцати, обручились. Это был триумф Меншикова. Пусть не он, но его дочь, кровь его, взойдет на российский трон, а он уж как-нибудь поможет на первых порах молодоженам управлять Россией!
Впрочем, Александр Данилович не спускал глаз с Петра II, держал мальчика при себе, даже поселил его в своем дворце. Неподалеку поспешно начинают строить императорский дворец. Меншиков мечтает, чтобы молодожены поселились в новых хоромах. Но неожиданно летом 1727 года Меншиков серьезно заболел и поневоле ослабил свой контроль за «карманным царем». Петр посидел раз-другой у постели будущего тестя, а за окном было прелестное лето… Словом, царь уехал за город на охоту. Там, на просторе, его окружение, в котором было немало тайных врагов временщика, сумело быстро настроить мальчика против надоедливого опекуна. Когда Меншиков поправился, то оказалось, что он проиграл.
В XVIII веке был популярен образ Фортуны, богини счастья, удачи. Она изображалась с повязкой на глазах, едущей на колесе (отсюда выражение «колесо Фортуны»). У сей девы была очень странная прическа – спереди длинный чуб, а темя и затылок лысы и гладки, как бильярдный шар. Схватить Фортуну за чуб – высшая доблесть для царедворца. Промедлить тут нельзя, иначе рука скользнет по лысине, и все пропало – укатит, хохоча, чертовка, не догонишь! Власть, как известно, любит только здоровых. Светлейший заболел, прозевал момент, словом, он промахнулся, и Фортуна укатила к другим, молодым и здоровым. Юный император не желал больше видеть своего опекуна и противную, старую (почти восемнадцатилетнюю!) невесту. И вмиг всех, кто подобострастно лебезил и заискивал перед могущественным временщиком, за честь почитая навестить его и сыграть у его постели партию-другую в шахматы или картишки, как ветром сдуло…
И Меншиков разом сник, сдался на милость победителей, этих пигмеев, окружавших царский трон. В чем тут дело? Почему он не прибег к помощи любимой им гвардии, не стукнул кулаком в Верховном тайном совете, не прикрикнул на членов Синода? Пожалуй, истинную причину произошедшего со светлейшим понял, глядя на толпу придворных, французский дипломат Шетарди: «Знатные только по имени, в действительности же они были рабы». Стоило мальчишке-царю – подлинному господину этой толпы рабов – топнуть ногой, нахмурить брови, и душа в пятки уходила даже у самых гордых вельмож. Словом, Меншикова лишили всех богатств, орденов, титулов и выслали в Раненбург, а потом в Сибирь. Александр Данилович не сопротивлялся – он сам без счета безжалостно топтал людей и знал повадки властителей. Только раз, во время начатого в Раненбурге следствия, он возмутился. Его, победителя в Северной войне, пытались обвинить в государственной измене, в связях со шведами в ущерб России. Но набрать компромата на героя войны со шведами ни следователям, ни русскому послу в Швеции Н.Головину все-таки не удалось. Впрочем, и такие обвинения у нас обычны. Так, совершив ошеломительный взлет из грязи в князи, Меншиков снова плюхнулся в грязь.
По дороге в Сибирь, не вынеся позора и горя, умерла его жена Дарья. Говорят, что Меншиков сам выкопал для нее могилу. А потом ссыльные приехали в Березов. Эти места теперь всем известны: примерно там находится «нефтяной Клондайк» – Сургут, куда «только самолетом можно долететь». Березов – заполярное место на берегу вечно холодной реки Сосьвы, глухое и печальное. Меншиков со слугами срубил себе дом. Он много молился в построенной им церкви и, наверное, как на известной картине Василия Сурикова, долгими вечерами сидел, кутаясь в халат, вспоминал прошлое, слушал, как дочери читают Библию.
В светлый праздник Рождества 1728 года, в самый день своего восемнадцатилетия, на руках у отца умерла Маша, «разрушенная невеста» Петра II, девочка, которой не суждено было стать царицей. Год спустя, в ноябре 1729 года, смерть пришла и за Александром Даниловичем. Он был похоронен возле своей церкви, в вечной мерзлоте. Сто лет спустя его могилу вскрыли – светлейший, покрытый тонкой коркой льда, лежал в гробу как живой. А потом тот берег реки Сосьвы, где стояла церковь, обрушился, и прах Меншикова унесло половодьем. Он уплыл от людей, будто по волнам Леты – реки времени и забвения.
Мария Гамильтон: прелестная головка в банке со спиртом
На иллюстрации – Ассамблея при Петре I. 1861. Неизвестный литограф по рисунку А.И.Шарлеманя. Фрагмент.
Согласно легенде, во время визита Петра Великого в Копенгаген в 1716 году датский король Фредерик IV, расслабившись после обильного обеда, спросил царя: «Ах, брат мой! Я слышал, что и у Вас есть любовница?» Петр помрачнел: «Брат мой! Мои потаскухи обходятся недорого, а Ваши стоят тысячи фунтов, лучше их на войну со шведами тратить…» Здесь, как во многом другом, Петр был последователен: интересы государства – прежде всего. Как вспоминал личный токарь царя Андрей Нартов: «Впущена была к Его Величеству в токарную присланная от императрицы комнатная ближняя девица Гамильтон, которую, обняв, потрепал рукою по плечу, сказал: “Любить девок хорошо, да не всегда, инако, Андрей, забудем ремесло”. После сел (за станок) и начал точить». Словом, как пели в советские времена: «Первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом…»
О любвеобильности царя-реформатора известно много. Современник косноязычно, но весьма прозрачно выражался о павианских наклонностях Петра: «Великий монарх никогда не отказал быть себя от плотского сластолюбия преодолена». Даже в поездки Петр брал с собой небольшой гарем метресс – так называли девиц легкого поведения, которые не перевелись в окружении Петра и с женитьбой царя на Екатерине. Но Екатерина нашла единственный удобный для себя способ поведения: она не преследовала мужа бесполезной ревностью, а… сама поставляла ему метресс. 18 июня 1717 года Петр писал жене из Спа, где он пил воды: «Иного сообщить отсюда нечего, только что мы сюда приехали вчера благополучно, а так как во время питья вод домашние забавы (то есть секс. – Е.А.) доктора употреблять запрещают, поэтому я метрессу свою отпустил к Вам, ибо не мог бы удержаться, если бы она при мне была». 3 июля Екатерина отвечала, что отсылка метрессы случилась явно не по требованию докторов, а потому, что она заболела нехорошей болезнью «и не желала бы я (от чего Боже сохрани!)», чтоб и любовник этой метрессы приехал бы в таком состоянии, в каком она приехала. То, что в отношениях супругов существовала и такая грань, многое говорит о Екатерине. Признавая и даже поощряя супружескую свободу, Екатерина как бы срывала полог тайны, за которым, пользуясь любострастием царя, могла усилиться ее возможная соперница. Ведь тайны любовных встреч часто предполагают тайну сердец. А вот этого как раз и не нужно было Екатерине, и поэтому она сделала «институт метресс» вполне легальным в их супружеской жизни с Петром.
Впрочем, и знатные дамы не оставались для царя недоступными. В принципе, российские самодержцы пользовались не только абсолютной властью, но и исключительной сексуальной свободой. Так продолжалось, пожалуй, до времен Александра III – однолюба и строгого моралиста. А до этого ни одна дама не могла отказать государю… Впрочем, Петр исповедовал принцип: «Живу сам и даю жить другим». Он не был строг и к половой свободе своих подданных, даже поощрял внебрачные связи. И здесь, как во многом другом, он исходил из интересов государства. Сохранился рассказ о том, как Петр защищал от нападок односельчан девушку, принесшую в подоле дитя от понравившегося ей иностранца. Погладив по головке рожденного в грехе бастарда, царь наставительно сказал: «Великое дело! Она ничего худого не сделала! А этот малый со временем будет солдат!» Указом 1715 года в государстве были учреждены больницы для содержания «зазорных младенцев, которых жены и девки рождают беззаконно и, стыда ради; отметывают в разные места, отчего оные младенцы безгодно помирают». Действительно, были известны многочисленные случаи, когда детей оставляли на помойках или подбрасывали под двери чужих людей. Регулярные, по мере заполнения, чистки нужников в женских монастырях приводили к страшным находкам и вызывали шок видавших виды золотарей. Приметим употребленное в указе слово «безгодно», то есть без выгоды, бесполезно для общества. И далее, как всегда в указах Петра, слышен грозный государственный рык: «А ежели такие незаконно рождающие явятся в умерщвлении тех младенцев, и оные за такие злодейства сами казнены будут смертию».
Собственно, все вышесказанное имеет прямое отношение к истории девицы Марии Гамильтон. По одной версии, она происходила из древнего шотландского рода, еще в XVII веке выехавшего в Россию, по другой – Марья Гамонтова (так переделали иностранную фамилию в России) являлась родственницей какого-то пленного шведского генерала. Как бы то ни было, примерно с 1715 года Мария Даниловна Гамильтон, девушка ладная и красивая, оказалась в окружении жены Петра Великого Екатерины Алексеевны, приглянулась ей и вошла в ее ближний круг. Позже стало известно, что она иногда даже ходила в нарядах царицы, а также имела доступ к ее драгоценностям и даже брала украшения без спросу или, как считали позже следователи по ее делу, попросту подворовывала их у госпожи. Марья состояла в комнатных ближних девицах (или в «девушках с верьху»), которых порой на западный манер стали называть камер-фрейлинами. В то переходное время, когда старая система старинных придворных чинов уже была разрушена, а новая еще не сложилась, двор Петра более напоминал собрание разношерстной дворни, состоял по большей части из денщиков царя и комнатных девиц царицы, более похожих на сенных девок. Гамильтон была одна из них: нарядившись в платье госпожи, она присутствовала на церемониях, а потом, как простая служанка, выносила царицыны ночные горшки. Не приходится сомневаться и в том, что Мария была любовницей самого царя, не пропускавшего ни одной юбки. При этом при дворе царя господствовало пьянство, зачинщиком которого бывал сам Петр, спаивавший своих приближенных. Женщины во главе с царицей также участвовали в разгульном, подчас безобразном веселье царя. Главными «героинями» попоек при дворе были Авдотья Чернышева по кличке Авдотья – Бой-баба и княгиня Настасья Голицына – старая горькая пьяница и шутиха. В придворном журнале Екатерины I мы читаем, что императрица, Меншиков и другие сановники обедали в зале и пили английское пиво, «а княгине Голицыной поднесли второй кубок, в который Ее Величество изволила положить 10 червонцев». Иной читатель спросит: что это значит? А значит это только одно – получить золотые монеты Голицына могла, только выпив огромный кубок целиком. По записям в книге видно, что княгиня была стойким и мужественным борцом с Бахусом, но бывали и неудачи – Бахус оказывался сильнее, и под общий смех присутствующих княгиня пьяной валилась под стол, где уже дремало немало других неосторожных гостей императрицы.
К описываемому времени царь отдалился от Марии Гамильтон (вспомните разговор царя с токарем Нартовым в токарне), и у нее начался тайный роман с одним из царских денщиков – Иваном Орловым, парнем молодым и красивым. Сам по себе Иван Орлов был личностью заурядной, недалекой, как говорится, «без царя в голове» – ветреным и непостоянным. Роман же с Марией был смертельно опасен как для Орлова, так и для Гамильтон, но в этом-то, как бы сейчас сказали, заключался особенный драйв: чтобы спать с любовницей грозного царя, нужно быть не просто хорошим мужиком, но орлом (вспомни, читатель, роман героя рассказа Фазиля Искандера с любовницей самого Берии!)…
Денщики Петра, как сказано выше, – особая группа приближенных царя. Обычно их было человек пять-десять. Они не только чистили царские сапоги и одежду, спали, подобно дворовым в помещичьих домах, у порога его спальни, но и выполняли порой серьезные поручения. Некоторых царь посылал с секретными заданиями в губернии и даже за границу. Для Петра обычно был неважен формальный статус порученца – главное, чтобы он был толковый человек и пользовался доверием государя. Многие из денщиков царя потом вышли в люди, причем в большие люди: денщик Алексашка стал генерал-фельдмаршалом (а потом и генералиссимусом) светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым, восемнадцатилетний денщик Пашка стал графом – генерал-прокурором, «оком государевым». Но все они в своем денщичестве обычно были такие же, как Иван Орлов, молодые, ражие парни. Они жили во дворце, рядом с царем, и, естественно, крутили любовь с девицами из ближнего окружения царицы Екатерины, другими придворными дамами и служанками. И как только государь отправлялся спать, денщики принимались шуметь, гоготать, тискать по углам и переходам царицыных ближних девиц. Этот шум беспокоил Петра, и, согласно одной из легенд, он стал запирать денщиков на ночь в голландские спальные шкафы, которые понастроили для царя, безмерно любившего все голландское. В этих шкафах, на разложенных перинах, голландцы спали полусидя-полулежа, что считалось лучшим способом избежать внезапного сердечного приступа или инсульта – удара. Кроме того, таким образом в доме экономили место. Как-то раз ночью Петру понадобился денщик, он пошел с ключом к шкафам, но все они оказались пусты… Тогда царь якобы сказал в раздражении: «Мои денщики летать начали через замки, как комары, завтра я им крылья обстригу дубиною». Где же проводили ночи денщики, в том числе Иван Орлов, можно только догадываться…
На дворе стояла весна 1718 года – время страшное. Как раз Петр расследовал дело своего сына царевича Алексея, в застенках Тайной канцелярии лилась кровь пытаемых, писали доносы, устраивались свирепые публичные казни, шли новые аресты, всюду искали врагов. Орлов тоже решил отличиться и подал Петру донос на каких-то людей, собиравшихся по ночам в компании. Царь сунул донос в сюртук, чтобы почитать писание своего денщика на следующий день, на свежую голову. Бумага же провалилась за подкладку камзола, и царь, утром хватившись и не найдя доноса, рассвирепел – он решил, что Орлов передумал и тайно выкрал донос из кармана.
Посланные за Орловым его нигде не нашли: он, бежав из шкафа, кутил в городе, в каком-то неизвестном дворцовым служителям кабаке, а может быть, ночевал у какой-то девицы. Отсутствие денщика вызвало новый приступ ярости подозрительного царя: он помнил, как один из его денщиков – тайный доброжелатель опального царевича Алексея, прочитав из-за спины государя указ об аресте сторонников царевича, сразу же побежал предупредить своих приятелей об опасности. Когда же, наконец, Орлова вытащили из какого-то «вольного дома», где он проводил ночь, и приволокли к царю, бумага уже обнаружилась за подкладкой. Но Орлов, не зная сути дела, страшно испугался. Увидав грозного царя, он так струсил, что сразу же повалился в царские ноги и чистосердечно признался (всё по Фрейду!): «Не казни, государь, виноват, сожительствовал с Марьей Гамонтовой». Слово за слово, и Орлов рассказал о своем «амуре» с фавориткой царя и между прочим признался, что Гамильтон имела от него двоих детей, родившихся мертвыми.
Царь насторожился: он вспомнил, что год назад при чистке дворцового нужника, в выгребной яме нашли трупик ребенка, завернутый в дворцовую салфетку, а совсем недавно в Летнем саду, у фонтана, утром вновь обнаружили тельце еще одного мертвого младенца в салфетке с вензелем Петра… Словом, позвали Марию Гамильтон, царь ее допросил – он был известный мастер сыска. После этого Марию, Орлова и всех причастных к делу слуг отправили в крепость.
Колесо машины сыска, скрипя, закрутилось: начались допросы и очные ставки, а потом и «виска» – дыба и кнут. В петровском застенке ломали волю и не таким нежным, как Мария, созданиям. На пытках под кнутом она призналась, что двоих зачатых ею детей она вытравила каким-то снадобьем, а третьего убила. В записи очной ставки Гамильтон со служанкой Екатериной, которая помогала тайным родам госпожи, сказано: «Жинка Катерина уличает, что, конечно, младенца задавила Марья таким образом: как она родила над судном, засунула тому младенцу палец в рот и подняла его [младенца] и придавила. А девка Марья [на очной ставке] сказала, что того младенца задавила она и в том и во всем виновата», а потом приказала служанке куда-нибудь выбросить тело. Иван же Орлов обо всем этом ничего не знал. Эти показания и привели саму Марью на эшафот, но спасли Орлова от казни, ибо, согласно закону, «ежели холостой человек пребудет с девкою, и она от него родит, то оный на содержание матери и младенца, по состоянию его и платы, нечто имеет дать (по-современному говоря, платит алименты. – Е.А.), и сверх того тюрьмою и церковным покаянием имеет быть наказан, разве что он потом на ней женится и возьмет ее за сущую жену, и в таком случае их не штрафовать». Собственно, Иван Орлов мало чем отличался от самого Петра Великого, долго блудно сожительствовавшего с лифляндской девкой Мартой Скавронской, народившей от царя множество бастардов, или, как тогда говорили, выблядков. Но все же различие между ними было существенное: сожительница Петра рожденных от царя детей в ночном судне не топила.
В ноябре 1718 года Марии Гамильтон был вынесен приговор: «Великий государь… Петр Алексеевич, будучи в канцелярии Тайных розыскных дел, слушав вышеписанного дела и выписки, указал: девку Марью Гамонтову, что она с Иваном Орловым жила блудно и была от того брюхата трижды и двух ребенков лекарствами из себя вытравила, а третьего удавила и отбросила, за такое ее душегубство, также она же у царицы государыни Екатерины Алексеевны крала алмазные вещи и золотые, в чем она с розысков повинилась, казнить смертию». Вообще-то согласно Уложению 1649 года муже– и детоубийц живыми «закапывали в землю по титьки, с руками вместе и отоптывали ногами». И если на улице было тепло, а стража вовремя отгоняла голодных псов, готовых разодрать жертву, то мучения несчастной затягивались на недели. Вот типичное доношение о такой казни, пришедшее в Брянскую воеводскую канцелярию: «Сего 1730 года, августа 21-го дня в Брянске, на площади, вкопана была крестьянская жонка Ефросинья за убийство до смерти мужа ее. И сего сентября 22-го дня оная женка, вкопанная в землю, умре». Следовательно, несчастная прожила в земле больше месяца! Но Марию Гамильтон ждала другая смерть.
После вынесения приговора многие из близких Петру людей пытались умилостивить его, упирая на то, что, мол, девица поступала бессознательно, с испуга, что ей стыдно и она покаялась. Более других хлопотали за Марию сама царица Екатерина Алексеевна и вдовствующая царица Прасковья Федоровна. Последняя даже пригласила царскую семью к себе в гости и пыталась в непринужденной застольной беседе уговорить царя помиловать Марию. Но Петр был непреклонен: проливший невинную человеческую кровь должен умереть, закон должен быть исполнен, и он-де не в силах его отменить. Причем царь был так решителен, что, почувствовав его гнев, старая царица постаралась «шуточным прикладом речь свою замять». В другом случае, когда вновь стали просить за Марию, царь вспомнил историю другого своего денщика, Васьки Поспелова, который женился на брюхатой от него фрейлине, и ничего! Причем невеста еле ходила вокруг аналоя, и в этот день царь гулял на свадьбе, а назавтра он участвовал уже в крещении новорожденного младенца, одобряя со смехом супругов за похвальную быстроту в производстве слуг Отечества.
Все ходатаи и просители за Марию, выслушивая рассуждения и шутки государя, понимали, что дело не в бессилии самодержца изменить подвластные ему законы и не в примере Поспелова. Просто все знали, что младенцы, убитые Гамильтон, возможно, были детьми самого Петра, и именно этого, как и измены за его спиной, царь не мог простить своей бывшей фаворитке.
14 марта 1719 года преступницу возвели на эшафот, устроенный на Троицкой площади. Она же все еще продолжала верить, что государь ее помилует. Чтобы разжалобить монарха, Гамильтон облачилась в праздничное, белое платье с черными лентами и, когда появился Петр, встала перед ним на колени. Государь помилования ей не объявил, но обещал, что рука палача ее не коснется – известно, что во время казни палач грубо хватал казнимого, обнажал его и кидал на плаху… Гамильтон и окружающие замерли в ожидании окончательного решения царя. Он что-то прошептал на ухо палачу, и тот вдруг взмахнул широким мечом и в мгновение ока отсек голову стоящей на коленях женщине. Так Петр, не нарушив данного Марии обещания, заодно опробовал привезенный с Запада особый палаческий меч – новое в России орудие казни, впервые тут использованное вместо примитивного и грубого топора.
Современники писали, что после казни государь поднял голову Марии за ее роскошные волосы и поцеловал в неостывшие еще губы, а затем стал объяснять своим помертвевшим спутникам особенности кровеносных сосудов, питающих мозг человека. После показательного урока анатомии голову Марии было приказано заспиртовать в Кунсткамере, где она и пролежала полвека в банке вместе с монстрами коллекции первого русского музея. В 1780 году директор Санкт-Петербургской академии наук княгиня Е.Р.Дашкова, наводившая порядок в этом учреждении, заметила, что в Кунсткамере идет большой перерасход спирта. Обычно грешили на служащих, которые, подобно служителям зоопарка, экономившим мясо на зверях, спирт в экспонаты недоливали, а в расход его, тем не менее, писали. Чтобы это безобразие прекратить, спирт для экспонатов коллекции Рюйша (знаменитая коллекция монстров в банках) настаивали на лютом черном кайенском перце, затруднявшем его потребление любителями хмельного. А тут выяснилось, что спирт расходуется на какие-то две головы, которые хранятся в подвале, в закрытом сундуке. Выяснилось также, что в банках находятся головы Виллима Монса и Марьи Гамильтон. Дашкова донесла о страшной находке императрице Екатерине II. Та приказала доставить банки во дворец, рассмотрела их, подивилась тому, что лицо Марии еще сохранило следы красоты, и распорядилась головы где-нибудь закопать, что и было исполнено.
Впрочем, у этой истории есть свое продолжение. Один из иностранцев, побывавших в Кунсткамере в 1830 году, рассказывал, что посетители, развесив уши, слушали рассказ сторожа о том, что некогда государь Петр Великий приказал отрубить голову самой красивой из своих придворных дам и заспиртовать ее, чтобы потомки знали, какие же красивые женщины родятся на Руси, и при этом показывал на заспиртованную в банке голову двенадцатилетнего красивого ребенка с нежным лицом и длинными ресницами, а потом за рассказ получал двугривенный «на водку».
Любопытно, что история Марии Гамильтон неожиданно аукнулась и за границами России. В Шотландии, на родине предков Марии, в народе была сложена баллада, которая сохранилась в записях великого шотландского романиста Вальтера Скотта. Героиня баллады Мария Гамильтон заворачивает в фартук рожденного от царя ребенка и бросает его в бурное море – времена наступили уже романтические, про ночное судно упоминать было невозможно…
Цесаревна Анна Петровна: жизнь и смерть шкиперской дочки
В этот, как обычно в Петербурге, хмурый день 12 ноября 1728 года с покойной шкиперской дочкой Анной Петровной пришли проститься сотни петербуржцев. Это были в основном корабельные мастера, офицеры, моряки – словом, верные товарищи и сослуживцы великого русского корабельного мастера и шкипера Петра Михайлова, более известного миру как Петр Великий… За много лет до этого дня там же, в Петербурге, в феврале 1712 года, в скромной тогда Исаакиевской церкви проходил обряд венчания. Два десятка моряков и их принарядившиеся жены толпились в тесном пространстве деревянного храма. Со стороны казалось, что это обычная свадьба жителя Адмиралтейской слободы новой русской столицы – шкипера, мастера или артиллериста. На самом деле венчался русский царь Петр Алексеевич и его давняя боевая подруга Екатерина Алексеевна. Как известно, брак Петра I и Екатерины долго не был освящен церковью. И вот в 1712 году царь решил узаконить свой начавшийся еще в 1703 году сердечный союз с Екатериной. Присутствовавшие на церемонии венчания в церкви увидели любопытную сцену. Жених и невеста шли вокруг аналоя, а за ними, держась за юбку матери, неуклюже топали две маленькие прелестные девочки. Старшей, Анне, было четыре, а младшей, Елизавете, три года от роду. Так были узаконены, или, как говорили тогда, «привенчаны» любимые дочери Петра, хотя мстительная народная память этой истории не забыла, и не раз в толпе императрицу Елизавету Петровну называли «выблядком», родившимся до брака, «в блудстве». Но Петру, как и в других делах, было наплевать на мнение народа, для которого он всегда держал наготове толстую палку. Понять, что в Исаакиевской церкви венчали царя, можно было только по тому, что гости дружной гурьбой отправились не в аустерию «Четыре фрегата», а в новопостроенный Зимний дворец, позже даже названный «Свадебным». Словом, этот февральский день 1712 года царь провел так, как и мечтал: пригласил приятных ему гостей, венчался в уютной церкви его родного морского ведомства, а потом, опередив всех, помчался в санках в свой еще пахнущий краской и свежим деревом дворец и вошел в большой зал, стены которого были завешены фламандскими шпалерами: дивные леса, могучие купы деревьев, мягкие, сглаженные вершины холмов. Все это расширяло пространство пиршественного зала: казалось, что за окном не мерзостный петербургский февраль, а весна, окрестности Антверпена или Гента и гости Петра собираются на просторной полянке среди округлых фламандских холмов под голубыми небесами – плафон зала был расписан в виде облачного неба, по которому плыли, надув розовые щечки, амуры.
Совсем не иллюзией был большой круглый стол, напоминающий столы современных международных конференций. Он был уже накрыт, когда приехал Петр и вместе со слугами укрепил над столом новую люстру на шесть свечей, которую две недели точил на своем токарном станке из черного дерева и слоновой кости. Потом, когда гости расселись вокруг стола, царь, вероятно, как всякий хозяин-умелец, с гордостью посматривал вверх на свое произведение, да еще и хвастался им больше, чем победами над неприятелем или успехами в законодательстве. А рядом в красивом платье сидела и скромно улыбалась его молодая жена.
«Общество было блистательным, – закончил свое донесение о свадьбе великого русского моряка английский резидент Чарлз Уитворт, – вино превосходное, венгерское, и, что особенно приятно, гостей не принуждали пить его в чрезвычайном количестве (как это – добавим от себя – обычно было принято за столом у Петра. – Е.А.)… Вечер закончился балом и фейерверком…»
Таким было первое появление в свете петровских дочерей. Впрочем, впервые Анна упомянута в Журнале Петра Великого 3 февраля 1711 года, когда «у Его царского Величества господа министры (то есть иностранные дипломаты. – Е.А.) все обедали и довольно веселились, понеже в тот день была именинница маленькая царевна Анна Петровна». Это праздновалось трехлетие нашей героини. Девочки росли, окруженные любовью и лаской родителей. Их учили светским манерам, танцам, языкам (Анна знала немецкий, шведский, французский и итальянский языки, и до наших дней дошли написанные ею по-немецки поздравления отцу). Писать девочка начала в восемь лет и подписывала письма «Принцесса Анна», что вызывало бурный восторг царя. В 1717 году Екатерина, бывшая с Петром в заграничном походе, просила старшую дочку «для Бога потщиться: писать хорошенько, чтоб похвалить за оное можно и Вам послать в презент прилежания Вашего гостинцы, на чтоб смотря, и маленькая сестричка (то есть Елизавета. – Е.А.) также тщилась заслужить гостинцы».
Иностранцы, бывавшие при дворе в начале 1720-х годов, поражались необыкновенной красоте подросших царевен. Похожая на отца, высокая, темноглазая, темноволосая, с ослепительно белой кожей, тонким станом, изящными руками, Анна отличалась от блондинки Елизаветы не только внешностью, но и нравом: была спокойнее, рассудительнее, умнее младшей сестры, ее скромность и застенчивость всем бросались в глаза. Как пишет современник, во время христосования на Пасху произошла забавная заминка. Когда знатный иностранный гость – герцог Голштинский – захотел поцеловать четырнадцатилетнюю Анну, она страшно смутилась, покраснела, тогда как младшая, Елизавета, «тотчас же подставила свой розовый ротик для поцелуя». Современники были в восторге от Анны Петровны. Один из них писал: «Это была прекрасная душа в прекрасном теле… она как по наружности, так и в обращении была совершенным его (Петра. – Е.А.) подобием, особенно в отношении характера и ума… усовершенствованным ее исполненным доброты сердцем».
При этом все понимали, что девушки в царской семье всегда династический товар, разменная политическая монета, их выдают замуж за границу, чтобы державе получить с этого «товара» известный политический капитал. А он был так нужен молодой петровской России, только что ворвавшейся под гром победных пушек Полтавы в высшее общество Европы. Это общество было исключительно монархическим, оно напоминало большую недружную семью, чьи члены все состояли в родственных связях, а корни династических дерев европейских монархов переплелись, как корни растущих рядом деревьев. И Петр, женив на инстранке сына Алексея, выдав за герцогов племянниц – Екатерину и Анну, начал переговоры с Версалем: Елизавета Петровна была почти ровесницей юного Людовика XV, и тут явно намечалась выгодная России династическая партия. А о судьбе же старшей дочери, Анны Петровны, император вообще молчал. Видно, жалея любимых дочерей, он все тянул и тянул с их замужеством, вызывая этим недоумение дипломатов и женихов.
Один из них, герцог Голштейн-Готторпский Карл Фридрих, уже три года околачивался в Петербурге в качестве жениха. Первый раз герцог увидел Анну в 1721 году, когда по приглашению Петра прибыл в Россию. Она ему очень понравилась, как, впрочем, и ее младшая сестра. И он долго гадал: какую из дочерей ему дадут в жены – черненькую или беленькую? Обе были прелесть как хороши. Впрочем, все склонялись, что за герцога выдадут Анну, поскольку Елизавету Петр задумал выдать за Людовика XV (хотя, заметим, французам вся эта затея не особенно нравилась – Елизавета, как и Анна, происходила от внебрачной связи царя с простолюдинкой – фи!).
Впрочем, выло заметно, что в брачных переговорах с голштинцами Петр не спешит, казалось, что он проявляет нерешительность. И было от чего: обстановка в Северной Германии, в Голштинии и вокруг нее была непростой, и сказать наверняка, что брак с герцогом принесет пользу России, было невозможно. Все упиралось в так называемый голштинский вопрос. Дело в том, что правители Голштейн-Готторпского герцогства своей главнейшей задачей ставили возвращение отнятой датчанами (союзниками Петра Великого по Северной войне 1700—1721 годов) в самом начале войны герцогской провинции Шлезвиг. Однако положение голштинцев в описываемое время было тяжелым. Собственных сил вернуть Шлезвиг у них не было, тогда как Швеция – главный союзник малолетнего герцога Карла Фридриха (он был сыном старшей сестры и, соответственно, племянником короля Карла XII) – была уже на грани поражения и изнемогала в борьбе с державами Северного союза, среди которых находилась и обидчица голштинцев Дания. А между тем история с заключением русско-мекленбургского политического и династического союза, когда брак герцога Карла Леопольда и Екатерины Ивановны привел к установлению в 1716 году фактического протектората России над Мекленбургом, необыкновенно воодушевляла голштинцев. Они предполагали установление такого же голштино-русского политического и династического союза с тем, чтобы – под русским прикрытием – смело смотреть в будущее и вернуть Шлезвиг. По мнению голштинских дипломатов, союзнические отношения России и Дании недолговечны, в отличие от торговых интересов России как крепнущей морской державы. Развитию же русской торговли в перспективе мешала так называемая зундская пошлина, собираемая датчанами с торговых судов, шедших через Зундский пролив. Поэтому голштинцы носились с планом прорытия стокилометрового канала (будущий Кильский канал), который снял бы для России проблему зундской пошлины. Словом, голштинская дипломатия стремилась втянуть Россию в круг своих интересов, заключить с ней союз, женив Карла Фридриха на одной из дочерей Петра I. Чтобы угодить любознательному русскому монарху, голштинцы расстались со своим знаменитым Готторпским глобусом, увезенным в Петербург.
Но все же главной соблазнительной приманкой для русских считался сам герцог Карл Фридрих. Как племянник бездетного Карла XII, он был наследником шведского престола. Даже после гибели в конце 1718 года Карла XII и начала правления Ульрики Элеоноры шансы Карла Фридриха занять шведский престол оценивались очень высоко. Возможность заполучить в зятья будущего шведского короля должна была, по мысли голштинцев, увлечь русского царя, распространявшего свое господство на Балтике. Но, против их ожиданий, Петр не спешил заключать такой союз. Дело в том, что к тому времени русско-мекленбургский альянс принес России чувствительное поражение и казался назидательным для царя. Дело в том, что вторжение и укоренение России в Северной Германии крайне обеспокоило соседей Мекленбурга, и прежде всего Ганновер, чей курфюрст в 1714 году стал английским королем Георгом I. Давление могущественной Англии и других держав на Россию оказалось столь сильным, что царь вывел из Мекленбурга свои войска, оставив Карла Леопольда на произвол судьбы. С тех пор в своих письмах к зятю и племяннице он ограничивался лишь советами. Повторять же в Голштинии мекленбургский сценарий Петр явно не желал. Война со Швецией еще не закончилась, вмешательство в голштинские дела привело бы к несомненному разрыву с Данией, а главное – к резкому обострению отношений с Ганновером, читай: Великобританией. Могущество же англичан Петр безусловно признавал и уважал. Поэтому он не спешил приступать к заключению династического союза, а лишь, как говорили в XVIII веке, «манил» голштинцев. В этих целях летом 1721 года он и пригласил в Россию герцога Карла-Фридриха как жениха одной из своих дочерей. Когда же герцог настаивал, Петр отвечал ему, что брак этот он ставит в зависимость от разрешения конфликта Голштинии с Данией. Так, в письме 14 апреля 1722 года он писал: «Что же принадлежит о супружестве, то и в том деле я отдален не был, ниже хочу быть, понеже ваше доброе состояние довольно знаю и от серца Вас люблю, но прежде, нежели Ваши дела в лутчее состояние действительно приведены будут, в том обязатца не могу, ибо ежели б ныне я то учинил, то б иногда и против воли и пользы своего Отечества делать принужден бы был, которое мне паче живота моего есть». Иначе говоря, ты мне приятен, но решай свои дела сам, обязательств дать не могу и ввязываться в конфликт не буду, ибо пользы для России не вижу…
Впрочем, Петр не спешил еще и потому, что очень любил дочерей и не хотел с ними расставаться. Сами девицы тоже, как писал не раз упомянутый наблюдательный французский посол Кампредон, «тотчас принимались плакать, как только с ними заговаривали о замужестве». Все это – верный признак счастливой семьи, которую страшит разлука. Возможно, поэтому все дочери (явные невесты на выданье) последнего императора Николая II и Александры Федоровны и погибли вместе с родителями в страшном екатеринбургском подвале.
Зато какие празднества закатывали для дочерей и с их участием в Зимнем доме Петра! Молодежь особенно любила прерывавшие скучное застолье танцы, которые позволяли гостям размяться после многих часов сидения за столом. Танцы устраивались в Большом зале и были обязательны для всех гостей. Обычно сам Петр с Екатериной открывали действо. Начиналось все с медленных, церемонных танцев: «аглинского» (контрданса), «польского», менуэта. Царственная пара отличалась неутомимостью и, бывало, выделывала такие сложные фигуры, что пожилые гости, шедшие за ними и обязанные повторять предложенные первой парой движения, под конец танца еле волочили ноги. Зато молодые были в восторге. Об одном таком эпизоде голштинский придворный Берхгольц пишет, что старики довольно быстро закончили танец и пошли курить трубки да в буфет закусить (в соседних покоях выставлялись столы с закусками), а молодым не было удержу: «Десять или двенадцать пар связали себя носовыми платками, и каждый из танцевавших, попеременно, идя впереди, должен был выдумывать новые фигуры. Дамы танцевали с особенным удовольствием. Когда очередь доходила до них, они делали свои фигуры не только в самой зале, но и переходили из нее в другие комнаты, некоторые водили (всех) в сад, в другой этаж дома и даже на чердак». Словом, танцы открывали неограниченные возможности для волокитства. Правда, разгоряченным танцорам в помещениях дворца, маленьких и тесных, было невероятно душно. Густые винные пары, табачный дым, запахи еды, пота, нечистой одежды и немытых тел (предки наши не были особенно чистоплотны) – все это делало атмосферу праздника тяжелой в прямом смысле этого слова, хотя и веселой по существу.
Когда за окном темнело, все ждали так называемой огненной потехи. Она начиналась в виде зажженной иллюминации: тысячи глиняных плошек с горящим жиром выставлялись на стенах Петропавловской крепости, других сооружений, очерчивая таким образом в темноте контуры зданий. Но все ждали главного – фейерверка. В день тезоименитства (именин) Екатерины его посвятили императрице, и он был устроен прямо перед Зимним домом на льду Невы. Фейерверк тех времен был сложным делом: синтезом пиротехники, живописи, механики, архитектуры, скульптуры и даже литературы и граверного дела – для каждого фейерверка изготавливалась гравюра, которую уснащали пояснениями различных фигур фейерверка и поэтическими надписями. Эти гравюры играли роль современных театральных программок, которые раздавали (но чаще продавали) зрителям. С этими гравюрами-программками в руках зрители (тогда их называли «смотрителями») выходили на крыльцо дворца или смотрели за огненной потехой из окон.