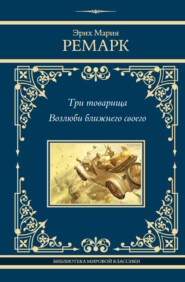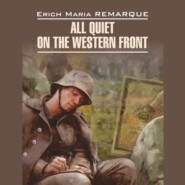По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возлюби ближнего своего. Ночь в Лиссабоне
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Биллинг нервно развернул номер «Штюрмера».
– Мое имя в газете. Я – позорю расу. Я – еврейский холуй. Все пропало, ты понимаешь?
– Да, Герберт.
– Интересно, как я выберусь из этой истории. На карту поставлена вся моя карьера. В газете, которую все читают, ты понимаешь?
– Да, Герберт. В газете есть и мое имя.
– Это другое дело! Тебе-то что? Ты все равно исключена из университета.
– Ты прав, Герберт.
– Значит, конец, да? Мы расходимся и не имеем больше ничего общего.
– Ничего. Ну, всего хорошего. – Она повернулась и пошла прочь.
– Подожди… Рут… Послушай же… Одну минуту.
Она остановилась. Он подошел к ней. Его лицо было так близко, что она слышала в темноте его дыхание.
– Послушай, – сказал он. – Куда ты теперь?
– Домой.
– Так сразу. – Он задышал еще чаще. – Ведь мы обо всем договорились, да? Ну и хорошо. Но ты могла бы… мы могли бы… как раз сегодня вечером у меня не будет никого дома, понимаешь, и нас бы никто не увидел. – Он схватил ее за руку. – Мы не должны так расставаться, то есть так… формально, мы могли бы еще один раз…
– Уходи, – сказала она. – Скорее.
– Но будь же разумной, Рут, – он обнял ее за плечи.
Она увидела красивое лицо, которое она любила и которому беззаветно доверяла. Потом она ударила его по лицу.
– Уходи! – закричала она, задыхаясь от хлынувших слез. – Уходи!
Биллинг отшатнулся.
– Что? Бить? Бить меня? Ты, грязная еврейская свинья, смеешь меня бить?
Он сделал вид, что хочет броситься на нее.
– Уходи! – закричала она пронзительно.
Он оглянулся.
– Заткнись, – прошипел он. – Хочешь натравить на меня людей? Очень на тебя похоже! Я уйду. Конечно, я уйду! Слава богу, что я от тебя отделался!
«Quand l’amour meurt»[8 - Когда умирает любовь (фр.).], – пела женщина на экране. Ее глубокий голос пробивался сквозь дым шумного марокканского кафе. Рут Голланд потерла лоб рукой.
По сравнению с этим все остальное было мелочь. Страх родственников, у которых она жила… настойчивые напоминания дяди об отъезде (он боялся, что его втянут в эту историю)… анонимное письмо, где было сказано, что если она не уберется в три дня, то за то, что она позорит расу, ей остригут волосы, повесят на грудь и спину плакат и провезут по всему городу… прощание с могилой матери… дождливое утро перед памятником жертвам войны, с которого была счищена еврейская фамилия ее отца, погибшего в 1916 году во Фландрии… и потом спешный отъезд в Прагу. Она бежала через границу одна, не имея с собой ничего, кроме нескольких драгоценностей матери.
На экране снова зазвучали флейты и тамбурины. Их заглушал марш Иностранного легиона – торопливые призывы кларнетов, обращенные к уходящим в пустыню ротам легионеров – солдат без родины и отечества.
Керн наклонился к Рут.
– Вам нравится?
– Да…
Он вытащил из папки и вложил ей в руку маленький плоский флакон.
– Одеколон, – прошептал он. – Здесь жарко. Может быть, это освежит вас немного.
– Спасибо.
Она налила на руку несколько капель. Керн не видел, что на ее глазах вдруг выступили слезы.
– Спасибо, – сказала она еще раз.
Штайнер уже во второй раз ждал в «Алебарде». Он дал официанту пять шиллингов и заказал кофе.
– Позвонить? – спросил официант.
Штайнер кивнул. Он несколько раз с переменным успехом играл в разных заведениях, и теперь у него было около пятисот шиллингов.
Официант положил перед ним стопку журналов и ушел. Штайнер взял какую-то газету и начал читать. Но скоро он отложил ее. Его мало интересовало, что происходит на свете. Для того, кто захлебывается под водой, важно только одно: выплыть на поверхность – ему нет дела до того, какую окраску имеют рыбы.
Официант принес кофе и стакан воды.
– Господа придут через час.
Он не отходил от стола.
– Хорошая погода сегодня, не так ли? – спросил он через минуту.
Штайнер кивнул и уставился на стену, где висела реклама, призывающая для продления жизни пить солодовое пиво.
Официант зашаркал к стойке. Через некоторое время он принес на подносе еще один стакан воды.
– Принесите мне лучше вишневки, – сказал Штайнер.
– Хорошо. Сейчас.
– И выпейте со мной.
Официант поклонился.
– Благодарю вас. Вы понимаете нашего брата. Это редко.
– Мое имя в газете. Я – позорю расу. Я – еврейский холуй. Все пропало, ты понимаешь?
– Да, Герберт.
– Интересно, как я выберусь из этой истории. На карту поставлена вся моя карьера. В газете, которую все читают, ты понимаешь?
– Да, Герберт. В газете есть и мое имя.
– Это другое дело! Тебе-то что? Ты все равно исключена из университета.
– Ты прав, Герберт.
– Значит, конец, да? Мы расходимся и не имеем больше ничего общего.
– Ничего. Ну, всего хорошего. – Она повернулась и пошла прочь.
– Подожди… Рут… Послушай же… Одну минуту.
Она остановилась. Он подошел к ней. Его лицо было так близко, что она слышала в темноте его дыхание.
– Послушай, – сказал он. – Куда ты теперь?
– Домой.
– Так сразу. – Он задышал еще чаще. – Ведь мы обо всем договорились, да? Ну и хорошо. Но ты могла бы… мы могли бы… как раз сегодня вечером у меня не будет никого дома, понимаешь, и нас бы никто не увидел. – Он схватил ее за руку. – Мы не должны так расставаться, то есть так… формально, мы могли бы еще один раз…
– Уходи, – сказала она. – Скорее.
– Но будь же разумной, Рут, – он обнял ее за плечи.
Она увидела красивое лицо, которое она любила и которому беззаветно доверяла. Потом она ударила его по лицу.
– Уходи! – закричала она, задыхаясь от хлынувших слез. – Уходи!
Биллинг отшатнулся.
– Что? Бить? Бить меня? Ты, грязная еврейская свинья, смеешь меня бить?
Он сделал вид, что хочет броситься на нее.
– Уходи! – закричала она пронзительно.
Он оглянулся.
– Заткнись, – прошипел он. – Хочешь натравить на меня людей? Очень на тебя похоже! Я уйду. Конечно, я уйду! Слава богу, что я от тебя отделался!
«Quand l’amour meurt»[8 - Когда умирает любовь (фр.).], – пела женщина на экране. Ее глубокий голос пробивался сквозь дым шумного марокканского кафе. Рут Голланд потерла лоб рукой.
По сравнению с этим все остальное было мелочь. Страх родственников, у которых она жила… настойчивые напоминания дяди об отъезде (он боялся, что его втянут в эту историю)… анонимное письмо, где было сказано, что если она не уберется в три дня, то за то, что она позорит расу, ей остригут волосы, повесят на грудь и спину плакат и провезут по всему городу… прощание с могилой матери… дождливое утро перед памятником жертвам войны, с которого была счищена еврейская фамилия ее отца, погибшего в 1916 году во Фландрии… и потом спешный отъезд в Прагу. Она бежала через границу одна, не имея с собой ничего, кроме нескольких драгоценностей матери.
На экране снова зазвучали флейты и тамбурины. Их заглушал марш Иностранного легиона – торопливые призывы кларнетов, обращенные к уходящим в пустыню ротам легионеров – солдат без родины и отечества.
Керн наклонился к Рут.
– Вам нравится?
– Да…
Он вытащил из папки и вложил ей в руку маленький плоский флакон.
– Одеколон, – прошептал он. – Здесь жарко. Может быть, это освежит вас немного.
– Спасибо.
Она налила на руку несколько капель. Керн не видел, что на ее глазах вдруг выступили слезы.
– Спасибо, – сказала она еще раз.
Штайнер уже во второй раз ждал в «Алебарде». Он дал официанту пять шиллингов и заказал кофе.
– Позвонить? – спросил официант.
Штайнер кивнул. Он несколько раз с переменным успехом играл в разных заведениях, и теперь у него было около пятисот шиллингов.
Официант положил перед ним стопку журналов и ушел. Штайнер взял какую-то газету и начал читать. Но скоро он отложил ее. Его мало интересовало, что происходит на свете. Для того, кто захлебывается под водой, важно только одно: выплыть на поверхность – ему нет дела до того, какую окраску имеют рыбы.
Официант принес кофе и стакан воды.
– Господа придут через час.
Он не отходил от стола.
– Хорошая погода сегодня, не так ли? – спросил он через минуту.
Штайнер кивнул и уставился на стену, где висела реклама, призывающая для продления жизни пить солодовое пиво.
Официант зашаркал к стойке. Через некоторое время он принес на подносе еще один стакан воды.
– Принесите мне лучше вишневки, – сказал Штайнер.
– Хорошо. Сейчас.
– И выпейте со мной.
Официант поклонился.
– Благодарю вас. Вы понимаете нашего брата. Это редко.