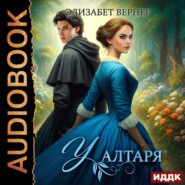По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Руны
Автор
Год написания книги
1903
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я выбрал ее, и больше мне сказать нечего.
– Отчего же ты не скажешь просто «да»? – заметил министр. – Я уже давненько стою здесь, у могилы, и был невольным свидетелем вашего прощанья у пастората. Ты поцеловал невесту, как этого требует обычай, но это не было прощаньем жениха, а когда ты проходил мимо с Куртом, то радовался, как узник, с которого сняли оковы.
Слова эти попали в цель и рассердили Бернгарда.
– Я не выношу оков, ты знаешь это лучше всех, – сказал он с гневом. – Это наш старый спорный вопрос; ты желал держать меня на привязи, а я хотел жить на свободе.
– Ну, теперь ты получил эту желанную свободу; что же, ты счастлив?
– Да! – решительно воскликнул молодой человек.
– Твои глаза говорят «нет». Я больше верю им.
– Кто же вообще счастлив? – воскликнул Бернгард с коротким, жестким смехом. – Может быть, ты? Есть ли хоть один счастливый человек на свете?
– Молодость счастлива сама по себе и должна быть счастлива, – ответил министр с ударением. – Тебе двадцать пять лет, ты на днях женишься и так говоришь! Посмотри на Курта, он счастлив, потому что молод и у него есть будущее, у тебя же только Рансдаль.
– Где я первый!
– Среди крестьян, ограниченных людей, которые знают только свою лодку да ружье. И в этом твое честолюбие! Я тоже хотел быть первым и стал им, но я выбрал себе иную цель.
Бернгард не отвечал, но в его душе шевелилась зависть при взгляде на человека, стоявшего перед ним в полном сознании собственной силы и продолжавшего с насмешкой:
– Правда, я не сам себе голова, как ты, у меня нет времени для катанья по морю да охоты, которыми ты наполняешь свою жизнь. Тебя это удовлетворяет, и, может быть, ты со временем станешь еще почтенным отцом семейства в своем Эдсвикене; боюсь только, что у тебя нет для этого задатков. Может быть, ты думаешь, что если у человека есть жена и дети, то жизнь становится для него удовольствием, если раньше была невыносима? Берегись! Такие цепи тяготят, если это только цепи.
Острый, пытливый взгляд министра был неумолимо устремлен на молодого человека. Тот стоял с таким видом, как будто должен был защищаться против этих глаз, немилосердно правдиво читавших его душу, и притом открывавший такие вещи, в которых сам себе не признавался. Наконец Бернгард угрюмо произнес:
– Оставь это, дядя, мы не понимаем друг друга. Когда я писал тебе, что подал в отставку, я уже знал, что между нами образуется пропасть. Ты видел в этом измену родине, а я – свое право, которым и воспользовался, и если это разлучило нас, то ведь мы никогда не любили друг друга.
– То есть, вернее, ты ненавидел меня за то, что я должен был сдерживать и принуждать тебя. Ты ведь не мог жить в нормальном обществе, когда приехал из Рансдаля. Я не поставил мальчику в вину его ненависти; он чувствовал только, что его стесняют; но я думал, что со временем, став взрослым мужчиной, он поблагодарит меня, и на это я возлагал все свои надежды. Когда ты служил с Куртом на «Винете» и мой старый товарищ, капитан Вердек, сообщал мне о вас обоих, знаешь ли ты, что он писал мне?
– Нет. Он был всегда строг и немногословен. Я только раз слышал от него похвалу тогда, в Вест-Индии.
– Ну, так можешь теперь услышать, это его собственные слова: «Курт Фернштейн – славный юноша; из него выйдет хороший моряк, но первым он не будет. Твой же „бесноватый“, из которого ты с таким трудом сделал человека, будет первым. Он за все принимается как настоящий „бесноватый“, но голова у него еще крепче кулаков. Из него будет толк, и если он сделает то, что обещает, то, Бог даст, будет на море тем же, кем ты на суше».
Бернгард слушал с широко раскрытыми глазами, с прерывающимся дыханием. Он знал, что значила похвала его хмурого начальника, и на мгновение его лицо осветилось радостной гордостью, но затем он страшно побледнел.
– Это… это написал мой капитан… обо мне?
– «Бог даст!» – повторил Гоэнфельс с горечью. – Богу это было угодно, тебе не угодно!
Молодой человек слегка вздрогнул и потупил глаза.
– Зачем ты говоришь мне это теперь? – с усилием проговорил он, наконец.
– Ты хочешь сказать, когда уже поздно? Я сказал бы тебе это тогда же, «Винета» находилась уже на обратном пути, и я ждал тебя. Разногласия между нами должны были прекратиться, я хотел сказать тебе: «У меня нет сына, ты потерял отца, будь моим сыном!» Но пришло письмо, в котором ты из мести швырял мне в лицо все, что я созидал в течение десяти лет. Ведь тобой руководила только месть; ты знал, какой удар нанесешь мне. Боюсь только, что ты пострадал от этого сильнее меня; мне ты только сделал больно.
– Больно? – Бернгард поднял глаза медленно, с выражением недоверчивого вопроса, и в лице дяди, всегда холодном и сухом, прочел подтверждение его слов; в самом деле, он сделал больно этому человеку.
Других людей такая сцена привела бы к примирению, но эти двое были слишком упрямы и своенравны, чтобы поддаться мягкому душевному порыву настоящей минуты. Оба колебались и ждали, но ни один не протянул другому руки, ни один не сказал примирительного слова. Казалось, покойник, могила которого возвышалась между ними, и теперь разлучал их своей ненавистью. Наконец министр проговорил, указывая на могилу:
– Подумай о своем отце. Он умер на чужбине, и мы оба знаем, какой смертью. Ты пошел той же дорогой, берегись, чтобы не кончить тем же!
Он ушел, не простившись и ни разу не оглянувшись. Рольф ждал его за калиткой кладбища и повел тем же путем назад к экипажу.
Бернгард остался один, и по его лицу можно было понять, какая буря бушевала в его душе. Вот чего ждал от него его капитан! Этот старик со сдержанными манерами и верным, никогда не ошибающимся суждением, пророчил ему большое будущее, а он… отказался от него!
Мальчику Рансдаль со своими горами и морем, где он мог давать полный выход своим силам и избытку необузданной энергии, казался свободным раем и остался таким в его воспоминаниях. Но, вернувшись сюда взрослым мужчиной, Бернгард нашел лишь будничную действительность – уголок земли, отрезанный от мира и людей, интересы которых ограничивались самым необходимым. Сюда не проникало дыхание цивилизации со всеми ее проблемами.
Бернгард давно понял это, коротая длинные вечера и бесконечные бессонные зимние ночи, и, когда пришла весна, он сделал предложение Гильдур, потому что не мог выдержать одиночества в Эдсвикене, потому что ему нужен был кто-нибудь, кто помогал бы ему сносить бремя жизни; о любви тут не было и речи. Страстный поборник свободы сам надел на себя кандалы. Они еще не были окончательно закованы, а он уже чувствовал их тяжесть.
«Будь моим сыном!» Почему эти слова не давали ему покоя? Теперь уже нашелся человек, получивший права сына – будущий муж Сильвии. Но если бы кто-то другой появился раньше, в то время, когда его ждали, если бы он тогда увидел то, что увидел теперь, когда было уже поздно… нет, нет, это было безумие. Это вело к тому, до чего дошел его отец!
Долго стоял Бернгард Гоэнфельс, погруженный в мрачное раздумье; но вдруг он выпрямился с прежней упрямой энергией и проговорил громко и жестко:
– Все равно! Я хотел этого и сумею все выдержать.
16
По темным волнам Ледовитого океана под немецким флагом плыла стройная белая яхта «Орел». Море немного штормило, дул свежий ветер, и в воздухе, несмотря на яркое солнце, чувствовалось то холодное дыхание, которое в самой средине лета напоминает путешественнику, что он находится за полярным кругом.
«Орел» очень удачно осуществил плавание на север; погода была ясная, и море достаточно спокойное; постоянно сменяющие друг друга величественные виды скалистых берегов рисовались вполне отчетливо, а когда встречные острова оставались позади, перед глазами во всем своем необъятном просторе расстилался залитый солнцем океан. Приятно было путешествовать на этом маленьком плавучем дворце, в котором было все, удовлетворяющее самых требовательных пассажиров.
Возле большого салона, где обычно собирались пассажиры, если не были на палубе, находилась небольшая каюта, обставленная с необыкновенным вкусом. Стены были выдержаны в нежных светлых тонах, а на занавесях и мебели преобладал голубой цвет. Это был прелестнейший будуар, устроенный с большим комфортом. Принц Зассенбург приказал отделать его специально для этой поездки и предназначил исключительно для своей невесты. Рядом находилась ее спальня.
Сильвия лежала на кушетке. В открытое окно врывался свежий морской бриз и слышался шорох и плеск волн; ей видны были только темно-синие волны с белыми гребнями, над которыми иногда быстро мелькала чайка, а по небу проносились белые облака, гонимые ветром на север. Взгляд девушки был мечтательно устремлен на эту привлекательную картину, но это не была мечтательность молодой невесты, которую переполняет тихое, тайное счастье; глаза Сильвии имели какое-то затуманенное выражение, но счастья в них не было.
Вдруг девушка испуганно приподнялась; дверь открылась, вошел ее отец.
– Лежи, лежи, дитя! – сказал он. – Альфред только что сказал мне на палубе, что ты не совсем здорова и ушла к себе. Надеюсь, ничего серьезного?
– Решительно ничего, папа. Я просто переутомилась и ослабела.
– Переутомилась? Прежде тебе была незнакома усталость.
– Здесь с ней поневоле познакомишься, когда ночи совсем не бывает, а царит вечный день со своим ярким светом. Я просто тосковала по темной ночи и звездному небу. Мне хотелось бы скорее оказаться дома!
Министр придвинул к кушетке стул и сел.
– Что случилось? – спросил он вполголоса. – Альфред в ужасном настроении. Ты опять его мучила?
– Нет, это он мучил меня своей бесконечной страстью, настойчивостью и требованиями взаимности. У меня от природы нет расположения к этому. Он ведь знает это! Зачем же он так упорно добивается того, что я не могу ему дать?
– Я совсем иначе представлял вас как жениха и невесту, – сказал Гоэнфельс, и между его бровей образовалась глубокая складка. – Когда вы, вернувшись тогда из Рансдаля, неожиданно объявили мне о своей помолвке, а ты попросила у меня ради этого прощенья за свой самовольный визит в пасторат, я думал, что вы в самом деле сблизились и что все, разделявшее вас и отчуждавшее друг от друга, исчезло; но оно все снова возвращается. Кто виноват в этом? Альфред любит тебя даже слишком сильно, он только и смотрит тебе в глаза, ты же относишься к нему с холодком. Он вполне вправе требовать от тебя большего.
Сильвия резко поднялась с кушетки.
– Ты собираешься бранить меня, папа? Но ведь я исполнила твое заветное желание.