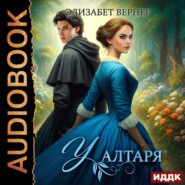По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Руны
Автор
Год написания книги
1903
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не смей ничего говорить против моего отца! – остановила его Сильвия. – Он старался спасти брата для семьи и родины, равно как старался спасти и тебя. Вы не захотели; это ваше дело, но вы не смеете упрекать его в чем бы то ни было!
Бернгард никак не ожидал от нее такого рьяного заступничества, однако тотчас же коротко и презрительно усмехнулся.
– Вероятно, мне следует благодарить его за «отеческое попечение»? Я был свободным мальчиком, выросшим на море и в горах, я не знал ни оков, ни стен; он посадил меня в ротенбахскую тюрьму, в это образцовое шлифовальное заведение, где диких птиц превращают в ручных, порой даже путем насилия. Он позаботился о том, чтобы я испытал эту силу, но ручным я не стал; и только научился молчать и ждать, когда пробьет мой час. Твой отец всегда считал себя всемогущим; каждому он навязывал свою волю, но потерпел поражение при столкновении со мной и с моим отцом, не пожелавшим преклоняться перед своим братом, а я не преклоняюсь перед министром, продолжающим повелевать и стремящимся вместе со своей страной заправлять половиной мира. Он уже почти достиг этого; во всем мире, где только представлена Германия, представлен он. Ты можешь гордиться своим отцом!
Это был необузданный взрыв накипевшего гнева, жаждущего мести, отплаты за предыдущие бессердечные насмешки. Сильвия выпрямилась, глаза ее сверкали.
– О, да, я горжусь своим отцом! – воскликнула она. – Имя Гоэнфельсов известно всюду и переживет его и его род. Все взоры устремлены на него, как на вождя, все доверяют ему, слушают его. Разумеется, я горжусь и счастлива тем, что я его дочь. Чего достиг в жизни твой отец? И кто такой ты в своем Рансдале, где ты хочешь жить и умереть?
Бернгард невольно отступил на шаг назад. Неужели это была та самая прелестная, насмешливая девушка, скрывающая под своей красотой коварство, в одно и то же время и чарующая, и язвящая? Она вдруг стала совсем другой и стояла перед ним, пылающая гордостью, вся охваченная бурным порывом.
«Кто такой ты?» Этот же презрительный безмолвный вопрос был написан на лице министра во время их последнего свидания. Именно это беспрерывно грызло молодого человека и было источником его страшного раздражения против дяди. Теперь этот вопрос бросили ему прямо в лицо, и он не мог вытерпеть этого. Он хотел возмутиться, но не находил слов, не находил оружия против правды. Кем, в самом деле, был он в Рансдале? Одним из многих, человеком, которого никто не знает, который никому не нужен, тогда как другой Бернгард Гоэнфельс стоял на высшей ступени иерархической лестницы.
– Уж не станем ли мы продолжать спор наших отцов? – угрюмо спросил он. – С ним было покончено, прежде чем ты родилась, а когда я приехал в Германию, ты была ребенком. Разве можешь ты знать, что сделал мне твой отец? Я же знаю; я хорошо узнал его!..
– Ты не знаешь его! – перебила Сильвия. – Ты всегда вынуждал его только бороться с тобой. Разве ты знаешь, легко ли ему это было? Ведь ты последний представитель его рода; у него не было сына; я осталась его единственным ребенком и своим жалким прозябанием доставляла ему лишь заботы и огорчения. Моя мать… она была светской дамой и жила только для общества, для меня у нее никогда не было времени. Я часто не видела ее целыми днями; ее тяготил больной ребенок, а у меня ведь были бонны[4 - Бонна – воспитательница детей.] и няньки. – Глубокая горечь слышалась в этих словах, но вдруг взволнованный голос девушки стал тише и зазвучал удивительно мягко. – Зато отец никогда не давал мне это почувствовать, никогда! Как часто далеко за полночь, встав из-за письменного стола, он заходил в мою комнату и наклонялся над моей постелькой!
Я сквозь сон чувствовала его присутствие, когда хватала его руку и не выпускала ее, он терпеливо ждал, чтобы я опять крепко заснула… Это он, всегда обремененный заботой и позволявший себе спать всего несколько часов в сутки. Правда, с тех пор как я здорова, он бывает часто строг со мной, но от него я все снесу! Он может наказывать меня, и я буду целовать ему руки.
Она говорила как бы в забытье; в ее голосе прорывались нотки страстной любви, глаза влажно блестели. Но она не получила ответа; Бернгард молча смотрел на нее не отрываясь, точно стоял перед загадкой.
Его молчание обратило на себя внимание Сильвии. Она как будто только теперь заметила, что позволила себе увлечься так же, как он; быстрым досадливым движением она откинула голову назад и закончила речь словами:
– Никогда больше не будем затрагивать эту тему. Я не могу вынести ни малейшего порицания отцу, а ты не в силах отказаться от своей наследственной ненависти к нему; я вижу это по твоему упорному молчанию.
– Я молчу только от удивления, – медленно проговорил Бернгард. – Ты, кажется, любишь превращения, я сейчас видел одно из них. Какое из лиц твое настоящее?
– Худшее! Я могу быть очень плохой. Итак, бойся меня!
– Я не труслив, – холодно ответил он.
– Тем лучше! Ах, как красиво! Солнце прорвалось сквозь тучи! Посмотри!
В самом деле, это было поразительное зрелище. Быстро мчавшиеся облака стали еще гуще, темнее, но вдруг расступились в одном месте и оттуда прорвались лучи солнца во всем своем ослепительном великолепии. На несколько минут грозные вершины скал и вся каменная пустыня загорелись ярким пламенем; рассыпающиеся водяной пылью ручейки высоко по краям долины заискрились и заиграли; лед глетчера мерцал синевато-зеленым сиянием, водопад ослеплял своей белизной, а в окружающем его в облаке брызг стояла радуга. Но это длилось лишь несколько минут. Солнце скрылось, и тяжелая, угрюмая тень легла на весь Исдаль; все стало опять холодным и бесцветным, как смерть. Раздался громкий крик, и между каменными глыбами показался старик-егерь. Его встревожило длительное отсутствие барышни, он отправился искать ее. Теперь он увидел ее вместе с владельцем Эдсвикена.
– Иду, Рольф! – крикнула ему в ответ Сильвия. – Тебе незачем провожать меня, – обратилась она к двоюродному брату. – Прощай!
– Прощай! – коротко ответил он и отступил, давая ей дорогу. Сильвия еще раз посмотрела на руны, отколола с костюма розы, и молча положила их на мох у подножья камня. Это была немая, но трогательная просьба о прощении. Затем она ушла, ни разу не оглянувшись.
Рольф ждал ее; казалось, и он был озабочен состоянием погоды и пошел впереди, чтобы предупредить девушку об опасных местах на узкой тропинке. Наконец они оба скрылись за скалами.
Бернгард неподвижно стоял на прежнем месте. Перед ним находился мрачный и грозный рунный камень с древними загадочными письменами, покрывавшими его выветрившуюся поверхность, но там, где когда-то лежала голова несчастного Иоахима, прочитавшего в этих рунах свою смерть, теперь благоухали две свежие розы, и сын почившего смотрел на них пристально и неподвижно, словно у него не было сил оторвать от них взгляд.
Тучи заволокли все вершины; в пропастях клубился туман, глетчер исчез под ним, и лишь едва заметно сквозь него белела полоса водопада. Вся долина наполнилась волнующейся массой облаков, и так же по-прежнему раздавались шипящий свист и шепот, производившие жуткое впечатление чьего-то голоса. Может быть, в нем звучала древняя исдальская сага с ее неразрешимой загадкой – смысл этих рун скрыт от глаз смертных, но бывает роковой час и существует роковое слово; кто узнает их, тот прочтет руны и свой приговор: смерть или жизнь!
13
Курт Фернштейн нанес визит в Альфгейм и, передавая поклон от отца, сообщил и об обручении своей сестры. Молодой агроном сделал ей предложение и получил согласие. Старик Фернштейн был очень рад, что приобрел в лице зятя нового сына взамен сбежавшему. Он написал министру длинное письмо, полное восхвалений жениху дочери; это человек совершенно в его вкусе, прекрасно знающий сельское хозяйство, обладающий к тому же еще и порядочным капиталом, который он принесет с собой в Оттендорф, так как управление последним, разумеется, перейдет со временем в его руки. Пока же они собираются хозяйничать вместе, так что Кети остается в доме отца. Словом, все устраивалось как нельзя лучше и к общему удовольствию.
В Альфгейме эта новость вызвала оживленное обсуждение. Сильвия и Кети Фернштейн всегда дружили, а Гоэнфельс знал, как близко принимал к сердцу друг его юности вопрос о будущем старинного родового поместья. Теперь оно оставалось за семьей, только сына заменял зять. В душе министра шевелилось горькое чувство, когда он с обычным спокойствием поздравлял Курта; его Гунтерсбергу было суждено перейти в чужие руки. Ближайший наследник отказался от своих прав. Это был рок; очевидно, Бернгард, как и его отец, был не совсем нормален; его брак с Гильдур Эриксен лишал его родового имения, майорат переходил к дальним родственникам, которых Гоэнфельс почти не знал и которые даже не носили его фамилии; старинный род кончался с ним и его племянником.
Во время этого визита о Бернгарде почти не говорили. Курт извинился перед хозяином за товарища, сославшись на какой-то предлог, принц принял его из вежливости, так как и не надеялся видеть молодого Гоэнфельса в Альфгейме, пока там был министр. Последний не вспоминал даже имени племянника, Сильвия сказала о двоюродном брате лишь несколько слов вскользь, умолчав о вчерашней встрече в Исдале.
Несколько дней спустя, в воскресенье, Бернгард пришел утром с Куртом в Рансдаль. К ним присоединился Филипп Редер, чтобы вместе идти в церковь. Он никогда не пропускал воскресной службы, хотя не понимал ни слова из проповеди на норвежском языке; но он целый час сидел на церковной скамейке рядом с Ингой Лундгрен, и это было щедрым вознаграждением. Было еще слишком рано, и Бернгард сначала пошел к Гаральду Торвику, получившему отпуск на все время, пока «Орел» стоял на якоре, и жившему у матери. Упрямый норвежец не являлся в Эдсвикен; вероятно, он ждал, чтобы сначала пришли к нему. Бернгард решил доставить ему это удовольствие и отправился к Гаральду, но рассчитал свой визит так, чтобы обедня могла послужить ему предлогом сократить его и уйти через какие-нибудь четверть часа.
Филиппу Редеру это пришлось очень кстати. Оставшись с глазу на глаз с Куртом, он заговорил торжественным тоном:
– Хорошо, что мы, наконец, одни, Курт! Мне нужно поговорить с тобой об одном весьма странном деле. Ты позволил себе удивительные вещи! Покорнейше прошу тебя объясниться!
– Что случилось? Удивительные вещи? Объясниться? Смысл твоих речей совершенно неясен для меня.
– Мне хочется надеяться, что тут только недоразумение, – взволнованно продолжал Филипп. – Во-первых, что ты наговорил Христиану Кунцу о моих болезнях? Если я и был болен, то исключительно душевно, а этот мальчик вдруг приносит мне какую-то мазь для втирания от рансдальского доктора, и уверяет, что это превосходное средство от ревматизма – его отец всегда и употребляет ее… У меня никогда не было ревматизма, и вообще я совершенно здоров. Что это тебе взбрело в голову?
Губы молодого моряка подозрительно дрогнули; он отчетливо помнил, как убеждал наивного Христиана в поразительном сходстве ревматизма с мировой скорбью, но к таким последствиям не был подготовлен. Он сочувственно покачал головой и произнес:
– Вот что значит говорить с необразованным человеком о высоких материях! Я хотел объяснить Христиану твою мировую скорбь, а он спутал ее с ревматизмом. Должно быть, это единственная болезнь, которую он знает. Но, собственно говоря, трогательно с его стороны, что он старается помочь тебе. Я бы уже из одной благодарности применил его мазь; может быть, она помогает и в случаях тяжелых душевных заболеваний.
– Пожалуйста, без насмешек! Я вообще больше не верю тебе; ты в высшей степени странно вел себя по отношению ко мне и фрейлейн Лундгрен, и переводил ей выражения, которых я совсем не говорил. Ты просто извращал мои слова!
– Откуда же ты знаешь это? – перебил его Курт, – неужели ты вдруг постиг тайны норвежского языка? Ты ведь не мог заучить даже несколько слов, а в пасторате никто не говорит по-немецки.
– Но ведь Христиан говорит на обоих языках и переводит дословно; об этом мне сказала фрейлейн Лундгрен.
– Ах, вот в чем дело!
Теперь моряку стала ясна связь между обстоятельствами. В последнее время у Инги появились сомнения, и она добралась до истины, воспользовавшись помощью Христиана, часто приходившего с поручениями своего хозяина из Эдсвикена. Конечно, Редер был подвергнут допросу относительно того, что именно он говорил и что было сказано ему, и тут-то и выплыли на свет Божий «вольные» переводы Курта.
Филипп, по-видимому, лишь наполовину понял, в чем дело, но он с раздражением продолжал:
– Ты постоянно рассказывал ей о том, что мне изменила невеста и что я безгранично несчастен из-за этого. Черт возьми! Я давно оправился после всей этой истории и даже почти забыл о ней.
– У меня складывается не совсем хорошее впечатление о твоих нравственных качествах, – наставительно сказал Курт. – И месяца не прошло с тех пор, как ты торжественно уверял меня, что никогда больше не будешь любить, что женщины не существуют для тебя с того дня, как одна из них изменила тебе, и вдруг теперь ты преспокойно начинаешь ухаживать за другой! Я считал тебя человеком с характером, а ты оказываешься совсем пустым малым! Этого я никак от тебя не ожидал!
Фернштейн состроил самую серьезную физиономию, хотя с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться.
– Неужели же я должен навеки отказаться от счастья потому только, что меня раз надули? – отпарировал Филипп. – И не подумаю! Я так и сказал фрейлейн Инге, конечно, через Христиана, и даже намекнул ей, где я нашел утешение и где рассчитываю найти свое счастье. Теперь она знает это.
– Вот как! И как же она приняла это?
– О, так, как я и не ожидал! – с торжеством ответил Филипп. – Она была глубоко тронута, протянула мне руку и сказала: «На вас я не сержусь. Вы были только жертвой, вы добрый человек!» Это слово в слово; я потом заставил Христиана еще два раза повторить мне то, что она сказала.
– Да, ты добрый человек, – согласился и Курт с растроганной миной, – жертвенные бараны всегда отличаются кротостью. Итак, на тебя она не сердится? Значит, весь свой гнев она сконцентрировала на мне и мне следует ожидать страшнейшего нагоняя?
Филипп злорадно улыбнулся. Он, правда, не знал всего, что позволил себе его школьный товарищ, потому что Инга не снизошла до объяснений, узнав, как были переведены ее ответы, но она при этом сжала руки в кулачки и даже сердито топнула ногой. Курт мог радоваться: его ожидала хорошая головомойка. И поделом! Он всех дразнил и всюду вносил раздоры. Вообще он был бесчувственным человеком, потому что вместо того, чтобы принять все близко к сердцу, только весело свистнул и тихо проговорил:
– Значит, опять расцарапаемся! Милая история!
Впрочем, заслуженная кара постигла Курта не сразу, потому что, придя в пасторат, они застали молодых девушек уже готовыми идти в церковь, но по тому, как Инга поздоровалась с молодым моряком, уже было видно, что его ждет. Редеру она демонстративно дружелюбно подала руку и сказала самым любезным тоном несколько слов, которых он, к сожалению, не понял; Фернштейн же не удостоился ни взгляда, ни слова. Инга смотрела мимо него, точно его и вовсе тут не было.