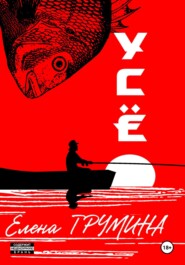По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мизеус
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гроб, о котором говорил Бруно, стоял отдельно от остальных, в глубине зала, дополнительно подсвеченный сбоку, и больше походил на вырванную светом часть церковной или монастырской стены.
Что-то подобное Анна чувствовала в соборе: молитвенный дух, священный трепет. Горькое смирение? Она не была религиозна, но дыхание затаила, едва ее взгляд остановился на росписи. Пять искусно написанных икон не имели границ между собою, но тон и насыщенность фона не позволяли слиться им в единый ряд. Анна подошла ближе, разглядывая крышку, визуально разбитую на три крупных фрагмента, и к своему удивлению обнаружила, что роспись имеет с иконами лишь внешнее сходство. Это не были сцены из жизнеописания святых, как Анне показалось сначала. Мужчины в деловых костюмах ловили средневековых птиц, а женщин в коротких юбках окружала условная позолоченная растительность. Материал, цвета, двухмерность рисунка создавали полную иллюзию подобия, но темы изображений оказались мирскими. Все было искусно прописано в деталях. Анна даже разглядела на пакете в руке одной женской фигурки надпись PRADA. Придавая живописи завершенность, по краю тянулись две полосы – золотая и красная.
Анна молитвенно сложила ладони. Потрясенная, отступила назад. Живопись обладала необъяснимой притягательной силой, магической силой. Анна растерянно оглянулась на гробовщика, но тот глядел в сторону, спокойно ожидая ее ответа. Снова взглянув на него, Анна поняла это и усмехнулась вихрю собственных переживаний. Как глупо, как глупо, подумала она. Гроб, иконы и она перед ними в молитвенном молчании. Что с ней? Это гроб. Гроб! Самая горькая вещь на свете. И недоиконы. Вот дура. Жуть. Морок. Жуть и наваждение…
– Если бы я была епископом, я бы отлучила вас от церкви, – заметила она холодно.
– Мне казалось, вы скажете другое. Но я атеист. И потом расписывал не я. Я делаю не все гробы, часть работы я отдаю. Для меня самого эта роспись явилась полной неожиданностью.
Эти слова Анну не удивили. В живописи была тайна, в ней чувствовались глубина, искренность, что-то феноменально-живое. Роспись на других гробах в сравнении с ней выглядела дешевой мишурой, вычурным легкомысленным баловством.
– Но это еще не все. Смотрите. Внутри я использовал касайский бархат, – Бруно откинул крышку.
– Тот самый из Конго?
– Да-да, мне приятно, что вы помните, – он кинул на Анну теплый и благодарный взгляд. – Этот бархат просился сюда. Однако дерево самое дешевое. Так что цена невысока.
Услышав слова «цена невысока», Анна вернулась к своей обычной насмешливой манере.
– Не говорите мне, не нужно меня шокировать.
– Не буду.
– А распродажи у вас бывают?
Гробовщик покачал головой.
– Увы. Гробы не выходят из моды.
– Он прекрасен.
– Но цена действительно не так высока.
– О чем вы? Я не сумасшедшая гроб покупать. Представляю, что сказал бы сын.
– Хотите лечь внутрь? Парадокс в том, что нам не судьба полежать в гробу. Ведь, когда это произойдет, нас уже не будет.
– Вы шутите?
– Ничуть.
– Я не полезу в гроб! Вы с ума сошли.
Анна засмеялась, с горькой иронией констатируя в смехе призывные ноты флирта.
– Попробуйте.
Может, он маньяк? Накинется на нее прямо в гробу? И что же он с ней сделает? Анна сжала губы, чтобы не расхохотаться.
Если она откажется, он подумает, что она старая закомплексованная тетка. Она не хотела, чтобы он так думал.
Тем более парень прав, когда она еще полежит в гробу? Тем более в таком!
– Значит, вот так взять и лечь прямо в гроб? Ха-ха-ха!
Как в прорубь нырнуть!
– Туфли лучше снять.
Только туфли?!
Анна сняла туфли, шагнула в гроб и, придерживая низ платья, легла. Жаль, она не знала, что все так обернется, иначе бы надела что-нибудь длинное, дорогое…а не эти открывающие колени маки, похожие на кровавые пятна.
Она лежала, зажмурившись, чувствуя чудовищную робость.
Какая чепуха! – рассердилась вдруг на себя. Что за вздор. Она девочка что ли? Ей скрывать нечего. Она такая, какая есть. И приоткрыла один глаз – смотрит ли?
Смотрел. Бесхитростно и вдумчиво, словно оценивал, достаточно ли хороша эта модель для его совершенного творения.
Лежа в гробу, Анна думала совсем не о смерти. Смерть казалась ей чем-то жутким, тошнотворным, но таким далеким, таким же недосягаемым, как черные дыры вселенной. Лежа в гробу, Анна думала о любви. Ей вспомнились светлые, счастливые лица Макса и Ольги, потом перед глазами появилось лицо Мельникова, с его вечно встревоженным выражением, эта его межбровная складка до середины лба, и Анна подумала, неужели она теперь одна из тех женщин, которым чинят в кухне кран, а не дарят цветы? Возраст делает людей такими? Прагматичными, высохшими, нечувствительными. Что это вообще было? Удивительно, что кольцо подошло. Может, дело вовсе не в самой любви, а в том, что он так и не сказал… не произнес тех самых простых слов признания? Может, в этом все дело? Но что бы это изменило?
Вздохнув, Анна открыла глаза. Господи, какими глупостями, оказывается, набита ее голова!
Где-то снаружи Шваб гавкнул два раза. Он всегда подавал голос дважды. Був. Бревис. Був.
– Ну как? – поинтересовался Бруно.
– Жутковато.
Анна говорила правду, сердце колотилось, она хорошо знала этот внезапный бег с горы, и что через несколько секунд ее единственным желанием станет выскочить на улицу, глотнуть воздуха, позвать на помощь. Она пыталась сохранить контроль над дыханием, не выдать своего ужаса, но дышать ровно уже не получалось. Ощущение катастрофы неумолимо приближалось, но Анна сохраняла видимое спокойствие, уговаривая себя, что это всего навсего приступ банальной паники, от которого еще никто не умер.
– О чем думаете?
– Я думаю о том, что собираясь дома выпить чаю, можно оказаться в гробу.
Надо говорить, это отвлекает, судорожно думала она, ощущая, каким плотным становится внутри легких воздух.
Бруно с серьезным видом кивнул.
– Да, жизнь непредсказуема в этом смысле.
Затем улыбнулся.
– Я забыл…секунду… подушечку для удобства.
И нечаянно коснувшись женской шеи, Бруно заботливо положил под голову Анны подушечку.
– Так лучше?