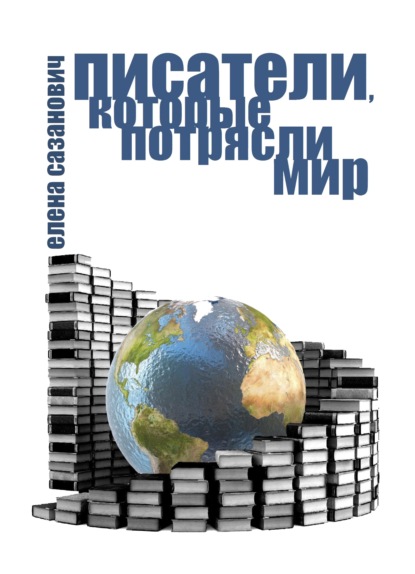По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Писатели, которые потрясли мир
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не потому ли, что Совет народных комиссаров СССР отметил литературные заслуги Горького особым актом, избрав в Коммунистическую академию.
Или потому, что он вел активную общественно-организаторскую работу, основав большое количество печатных изданий и книжных серий, среди которых «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», «История гражданской войны», «История фабрик и заводов».
Или потому, что в 1934 году под председательством Горького проходил Первый Всесоюзный съезд советских писателей, сыгравший ключевую роль в образовании Союза советских писателей.
Или, что по инициативе Горького был основан Литературный институт, затем названный его именем…
Да мало ли почему. Заслуг Горького перед Родиной не перечислить. И это вполне справедливо. Но не в них дело. Не только в них. Просто однажды Горький в своей, пожалуй, лучшей пьесе «На дне» сказал: «Человек – свободен… он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум – человек за все платит сам, и потому он – свободен!.. Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это – огромно! В этом – все начала и концы… Все – в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга! Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!»
И все же псевдоним – горький… А у нас теперь так много появилось сладеньких псевдонимов. Но от них душе читателя почему-то становиться только горше. И все больше людей, внимая сладенькие речи сладенькой интеллигенции, оказываются «На дне».
Мы все можем оказаться на дне. В любой день, в любую погоду. Драма Горького «На дне» была написана более ста десяти лет назад. Но ее возраст так ничего и не отменил. Не отменил дно. И людей на нем. Поэтому пьеса имела такой ошеломляющий, феноменальный успех. И с феноменальным успехом обошла все театры (а потом и кинотеатры) мира. Пьеса в одночасье разбила все границы. Уровняла все социальные сословия. Она стала воистину интернациональной пьесой. Каждый может оказаться на дне. И Барон, и Артист. И содержатель ночлежки. И слесарь. И торговка. И картузник. И сапожник. И полицейский. И богоугодный странник. «Без имени нет человека». Впрочем, далеко не только…
На самом дне в любой стране могут оказаться и принц, и шоу-мен. И хозяин казино, и священнослужитель. И владелец супермаркета, и генерал. И даже президент, например, Украины или США. А что тут такого? Есть народная мудрость (а народ никогда не ошибается): от тюрьмы и сумы не зарекайся.
От этого никто не застрахован. Нет такой страховки. Даже за миллиард долларов. Даже если взорвать полмира. Одним жестом, легко в любом уголке земного шара можно английский пиджак запросто поменять на тряпье или арестантскую робу. А то и вовсе – на петлю. Это на земле все неравны. А под землей очень даже. Как и «На дне».
Горький не ошибся. Его пьеса выстрела метко.
И попала во весь мир. И в его гниющие философии, точнее – антифилософии. И в его сладенькие лживенькие идеи, точнее – безыдейности. Максим Горький, этот идеологический романтик, написал настолько обнаженную пьесу, довел ее до такой степени реализма, что реализм превратился в нечто особое, нечто уникальное. Чуть ли не в авангардизм.
А авангард редко у кого получается – он по себе слишком искусственен. Настоящий авангард рождается только из настоящего реализма. И это доступно только гениям…
Это пьеса о горькой правде. И о сладкой лжи. Они борются, впрочем не так уж отчаянно. И побеждает ложь. Все как всегда. В пьесе все врут, чтобы спастись. «Видно вранье-то… приятнее правды…» Горький смотрит на своих персонажей со стороны. Иногда кажется, он никому не сочувствует. Потому что они принимают это «расписание жизни». И истине предпочитают утешительную ложь. Потому что «безумству храбрых» предпочитают «мудрость кротких».
Клещ: Какая – правда? Где – правда? (Треплет руками лохмотья на себе.) Вот – правда! Работы нет… силы нет! Вот – правда! Пристанища… пристанища нету! Издыхать надо… вот она, правда! Дьявол! На… на что мне она – правда? Дай вздохнуть… вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне – правду? Жить – дьявол – жить нельзя… вот она – правда!..»
Что ж – тогда ложь. И ее явление в образе Луки. Не святого Луки. А Луки лукавого. Вот он, акцент – не путать настоящую религию с религиозным лукавством. Эх, как сладенько журчит Лука о «земле праведной». Просто вот есть и все – этакая «праведная земля» с «хорошими людьми». И это журчание как-то принижает людей, парализует их волю к борьбе, гипнотизирует на смирение.
Увы, но смирение обрекает на дно. Без усилий, моральных, физических, идейных, со дна не выбраться. А Лука все журчит и журчит. И ему поверили. А кто-то настолько поверил, что взял и повесился. Когда понял – нет такой «праведной земли, нет. И не было. Иллюзии убивают. Правда тоже часто убивает. Но если ее принимаешь, то во всяком случае есть шанс самому убить зло.
Ложь Луки «во спасение» приближает жителей ночлежки к неизбежной трагедии. И эта трагедия разгорается именно тогда, когда они свято уверовали в тепленькие стариковские сказочки. Поверили в любовь, в работу, в прекрасную землю. И вообще, что на этой земле можно еще излечиться. Ружье, заряженное ложью, выстрелило. Ваську Пепла ждет каторга за убийство Костылева. Во имя любви. Наташу наверняка ждет психиатрическая лечебница. А Актер просто удавился. Слишком много мечтал под лелейные проповеди несвятого Луки. «Эх… дур-рак! испортил песню… " И во имя чего? А старикашка просто смылся, ловко разыграв очередную трагедию, и умыв руки… И был ли мальчик? И куда он теперь подастся со своим приторным язычком? (Цыпун ему на язык). Со своей котомочкой да чайничком?
Как-то, в середине пьесы Пепел спросил его: «Куда теперь?» Лука: В хохлы… Слыхал я – открыли там новую веру… поглядеть надо… да!..»
Вот он и поглядит. Может, мать, потерявшую детей в Донбассе под обстрелами неонацистов, успокоит. Мол, ничего, ты терпи. Им на небушке, деткам твоим, хорошо будет. С хлебушком. Лучше, чем здесь. Может, слезливенько поглядит старик на сгоревший Дом профсоюзов в Одессе, перекрестится: «На все воля Божья…»
А, может, и вовсе прожурчит ополченцам свою старую песенку о чудесной земле, где живут «хорошие люди». Пусть они сложат оружие, плюнут на все, и пойдут, отыщут этот райский уголок. И заживут долго и счастливо. Можно и Ване из Донецка что-нибудь тепленькое промурлыкать. Мол – простить всех врагов надо и смириться…
Максим Горький в свое время странствовал по Украине. Дружил со многими украинскими писателями. Даже печатал или помогал печататься многим украинским авторам в русских переводах, содействовал изданию «Кобзаря» Тараса Шевченко, а в юности организовал в селе Мануйловка на Полтавщине хор и самодеятельный украинский театр, даже сам исполнял роли в пьесе «Мартын Боруля». Он даже знал украинский язык. Он дружил с Михаилом Коцюбинским. И когда классик украинской литературы умер, Горький написал: «Смертен человек, народ бессмертен. Глубокий мой поклон народу Украины».
Чтобы он написал теперь? Или же, встретив на руинах городов и поселков Новороссии своего старенького умилительного персонажа – лукавого Луку, просто хорошенько ему бы врезал? И процитировал себя же: «Рожденный ползать – летать не может.»
Ползи, лукавый Лука, и дальше по миру… А всей киевской хунте, разжигающей войну против собственного народа, продекламировал из «Легенды о Марко»: " А вы на земле проживете, / Как черви слепые живут: / Ни сказок о вас не расскажут, / Ни песен про вас не споют…»
Как-то Ромен Роллан написал своему лучшему другу Максиму Горькому: «Вы были словно высокая арка, переброшенная между двумя мирами – прошлым и будущим, а также между Россией и Западом»…
Прошлое и будущее – для бессмертных писателей. Потому что они сумели познать настоящее. Потому что только они своим творчеством смогли разрушить границы между Россией и Западом. Это, безусловно, про Горького… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Эрнст Теодор Амадей Гофман. сказка из новых времен
Может быть, 240 лет – для кого-то это и много. Только вряд ли для Гофмана. Потому что Гофман придумал Гофмана. Потому что Гофман придумал гофманиаду. Вне хода часов. Вне границ. И вне материков. Он не умел читать по времени и пространству. Он не умел писать по времени и пространству. Маг или сказочник? Волшебник или фокусник? Старина Гофман. Он умер в 46 лет. Жить бы да жить. Не получилось… В этом году (2016 г. – Ред.) Эрнсту Теодору Амадею Гофману исполнилось бы 240 лет…
Немец Гофман, которого после смерти и забвения миру вернули (как часто было и будет) русские. «Наш» немец Гофман умудрился родиться в Кенигсберге (Калининграде). Так что вместе с Кенигсбергом Россия присоединила и Гофмана. Справедливо присоединила. Немцы всегда (мягко говоря) его недолюбливали. Он был им непонятен. «Не как все…» Волосы торчком. Поношенный фрак. Подпрыгивающая походка. Робкий взгляд и зловещая усмешка. В минуту – тысячи слов, и – полчаса гробового молчания. Вежливые жесты и грубая шутка. Человек – контраст. Безумный, хотя «у себя на уме». За его спиной сплетничали, перешептывались. И крутили пальцем у виска. Он так не был похож на них, на этих самодовольных невежественные филистеров. Этих лицемерных ханжей.
Ох, как им доставалось от Гофмана в его гениальных творениях!… И они не преминули отомстить. И на надгробном камне писателя сделали надпись с не очень скрытой могильной иронией: «…он был одинаково замечателен как юрист, как поэт, как музыкант, как живописец». «От его друзей». Юрист – на первом месте!
Хотя Гофман действительно был отличным юристом. Справедливым. Ему удалось помочь многим подсудимым, репрессированным властями под предлогом «борьбы с демагогами». Но все же в историю он вошел как блестящий писатель. А надпись – «от его друзей» из судебного департамента, который он всегда ненавидел – вообще веет издевкой. Учитывая, что незадолго до смерти, писатель подвергался судебному преследованию. За сатирическую сказку «Повелитель блох», в которой высмеял и обличил юридическое крючкотворство председателя особой комиссии. Сказку запретили. Было заведено «дело Гофмана».
В историю культуры вошел беспрецедентный по своей жестокости допрос гения на смертном ложе. За несколько дней до кончины… Так что от тюрьмы Гофмана спасла смерть… А вот от сумы… От сумы мало что спасало Гофмана. Похоже, правда, что «черт на все может положить свой хвост».
А про чертей Гофман знал как никто другой. Нет, он не водился с ними. Совсем наоборот. Просто «я похож на детей, родившихся в воскресенье: они видят то, что не видно другим людям». А дети любят по вечерам, в темной комнате пугать. Закатывать глаза, сдвигать брови и протягивать ручки: «У-у-у!..» «Ой, как страшно!» – в ответ врут им взрослые. А по-настоящему страшно лишь детям. Потому что они видят то, что не видно взрослым. Воображают то, что взрослые уже не способны вообразить. И сочинить, и придумать, и довести до абсолютного совершенства эти фантазии. И написать. Золотым пером. Вернее, вообразив, что перо золотое. И золотые буквы легко ложатся на пергамент.
Контраст. Двуликость. Двойственность. Двусмысленность? Дуализм?.. К чему так склонен был Гофман.
Он пугал по-своему. Он был изящен и виртуозен в своем стращании. Слишком талантлив. Поэтому его произведения переливаются переменчивым светом. Хотя за окном – только ночь… Это и называется – жизнь. Она единственная могла напугать Гофмана. Жизнь от которой он всю жизнь бежал. В Атлантиду. В мир собственных грез.
Интересно, как бы сегодня Гофман отметил свой юбилей? Наверняка, по привычке. Заглянув вечерком в свой излюбленный погребок Лютерна и Вегнера. Правда, модернизированный – но это его не испугает. Он сам кого хочешь может напугать! 240 лет? Подумаешь! Его некоторые персонажи вообще живут вечно. Он сам умер в 49? Трагедия! Зато меньше трагедий на его долю. Гофманиада? Быть может… Нет, Гофмана ничем не запугать. Его привилегия – запугивать других. Сам он ничего не боится.
Поэтому, по законам гофманиады, он сядет в свои 240 на привычное место, на деревянную лавку. Закажет еще, потом еще и еще искристого фирменного вина. Скользнет взглядом по картинам местных художников. (Неужели потом некоторые из них будут стоить миллионы! Наверняка бы стащил, хоть одну из них.) На знакомый буфетик. (И он тоже?) И, наконец, по-гофмановски, демонически усмехнется. Или также по-гофмански ласково улыбнется… (А ведь также любил посидеть и его обожаемый Моцарт! Да, Гофман даже изменил имя Вильгельм на Амадей! Все – из-за Моцарта! Страсть к музыке – от Моцарта! А на могиле – имя Амадей не указали! Вот уж этот судебный департамент. Его бы судить… А как композитор он вообще творил под псевдонимом Иоганн Крайслер. Зачем? Чтобы запутать историю?)
Гофман выпьет залпом искрящееся вино. И что? Что там, позади, за окном? Вечером. В Германии. Его судьба? Безотцовщина? Ненавистное служение судебным чиновником? Наполеон? Судьба его родной страны? Его родного города (который гораздо позже окажется в России)?..
За окном – молчаливый народ, трусливые политики и церковная реакционность. И его бесконечная «сума», от которой, впрочем, он и не зарекался.
«Это было как раз в начале пережитого нами рокового времени, когда я считал свою жизнь, посвященную искусству, разбитой и погибшей навсегда, и мною овладело глубокое отчаяние…»
И вновь – «тюрьма», где он должен служить юристом… Но где же, где же Моцарт? Нет, он мысленно не покидал Гофмана. Вот она, сочиненная Гофманом опера «Ундина» – 20 великолепных премьер! И потом – сгоревший театр… Гофманиада.
Гофман – из маленьких людей. Это не ирония. Просто он сознательно хотел быть среди них. Маленьких, гордых и талантливых. Может быть, раздавленных жизнью. И искусством. Но, никогда, никогда свою жизнь и искусство не продающих. Может быть, поэтому в его творчестве так гармонично сочетаются и красота, и уродство. И здравый смысл, и безумие… Пожалуй, родись он век назад – его сожгли бы на костре. Впрочем, его готовы были сжечь и после смерти.
Его спасла Россия. Его любили и по праву ценили. Если и существует гамбургский счет – то он только в России. И на свой юбилей Гофман, не раздумывая, пригласил бы в первую очередь наших, русских. С ними бы он нашел общий язык. Белинский громогласно назвал бы его «одним из величайших немецких поэтов, живописцем внутреннего мира». И потягивая шипучку, удивленно заметил бы: «Отчего доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром и Гете?..»
Достоевский, перечитавший всего Гофмана на языке оригинала, воскликнул бы: «Потрясающе!» А потом бы побежал писать своего «Двойника».
Самый великий «возвращатель» Гофмана – Чайковский непременно бы выпил с автором «Щелкунчика» на посошок.
Да и вообще, Гофмана обязательно пришли бы поздравить и Жуковский, не раз с ним встречавшийся в Берлине. И Пушкин, у которого ан книжной полке стояло полное собрание сочинений Гофмана на французском. И Гоголь, и Герцен, и Чернышевский, и Андреев, и Булгаков… С нашими бы он с удовольствием пофилософствовал в винном погребке… Там, где ночь за окном. А впереди… Точка. Когда всего лишь 46 лет… А после 46-ти – аж 240… Ведь это – Гофман.
Он не любил гулять по ночам. Ему непременно казалось, что его персонажи материализуются. Выскочат со страниц книг. Которые он написал дерзко, вдохновенно, лукаво. И что они с ним могут сделать? Знает лишь сам Бог… Или сам черт… «Кавалер Глюк», «Дон-Жуан», «Щелкунчик», «Песочный человек», «Крошка Цахес», «Кот Мур»… Впрочем, разве что кот Мур не обидится. Обожаемый Гофманом кот Мур, которому он и посвятил свое последнее произведение.
А еще Гофман знал тайну «Золотого горшка»… В самом названии одного из лучших его произведений скрыта отчаянная ирония. Отчаянный сарказм. Отчаянное отчаяние. Не верьте золоту. Которое всего лишь может оказаться горшком… И продолжение названия: «сказка из новых времен». Вера в сказку – вечна. А новые времена всегда наступают потом. Завтра. Значит – никогда. Значит они – всего лишь мечта…
Обыкновенный Дрезден. Обыкновенные улочки. Обыкновенные немцы. Все настолько обыкновенно, что необыкновенное неизбежно. И там живет Гофман. Точнее – его герой. Студент Ансельм. Недотепа, неудачник, недо… Из тех, у кого бутерброд падает непременно масленой стороной. Мир законченных романтиков и законченных мещан. Мир прозы и поэзии. Гармонии и хаоса. В общем, мир сторонников музыки и противников ее.
Впрочем, такой обыкновенный мир… Ансельм этот мир не понимает и не принимает. Но этот мир, не понимая его, заключает в свои объятия. И это ужасно. Кто хочет сделать миру хуже – забирает лучшее…
Ансельм безволен, слаб. И жизнь его кружит в вихре волшебных событий. То поднимая вверх, к небу и звездам. То безжалостно бросая на землю… Автор подтрунивает над ним. Иногда грубо смеется. Но при этом сердце автора сжимается от боли и сострадания. Потому что он сам такой – Гофман. Потому что он знает, как необыкновенно тяжело вырваться из двуликости мира. И обрести гармонию. Для этого нужно быть необыкновенным…